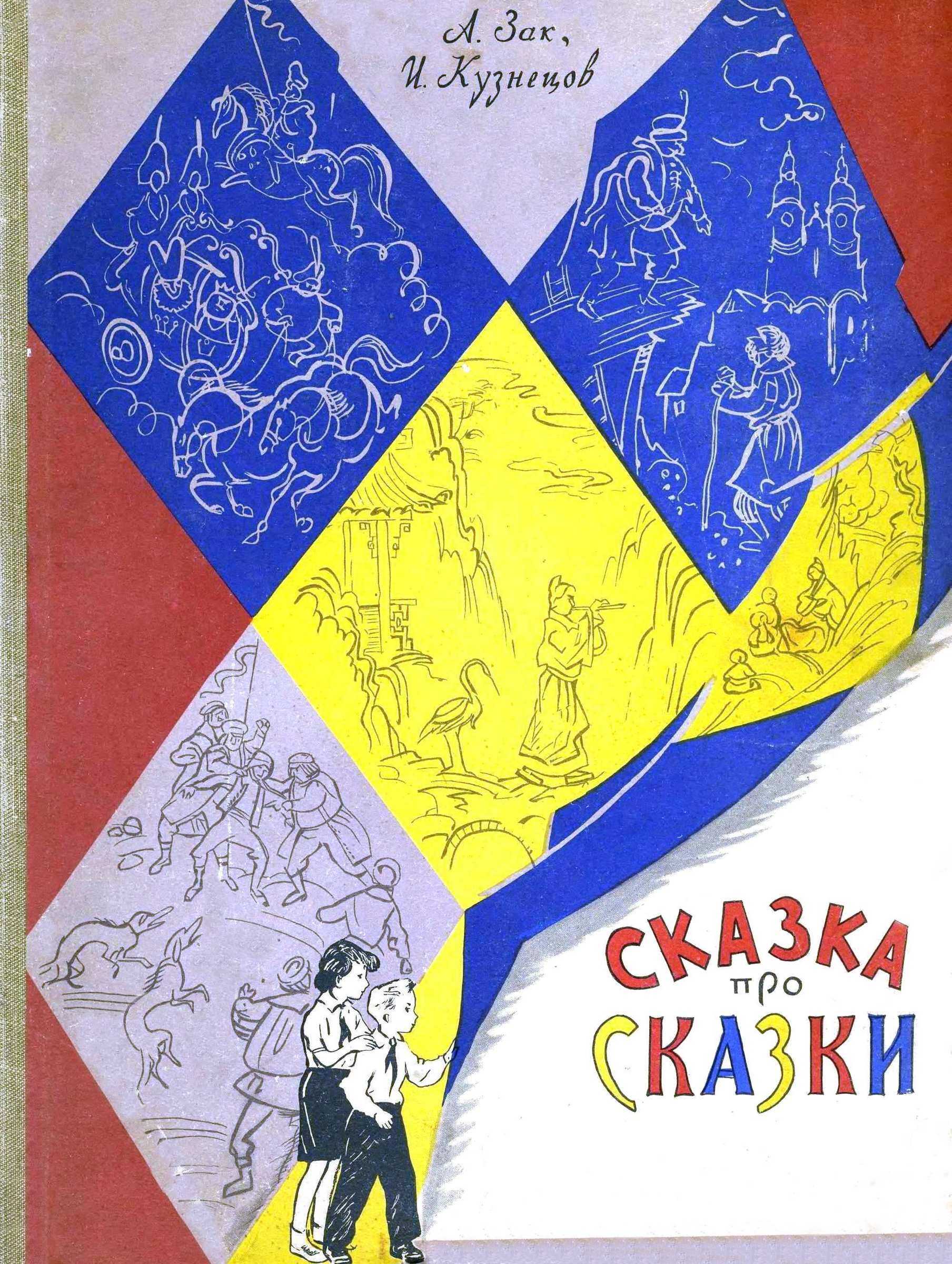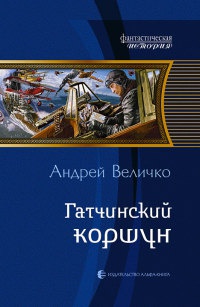Книга Корвет «Бриль» - Владимир Николаевич Дружинин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Никто не сомневается, Федор Андреевич. Но какой бы ни был груз, хоть золотой…
Лучезарное настроение Лавады не поколебалось. Он добродушно перебил:
— Не будем мы… Не будем мы создавать «чепе», Игорь Степанович.
Трубы вспыхивают на солнце, опускаются и гаснут в глубокой, зовущей тени. Штабель тает, вздох облегчения пробегает по телу судна. Инцидент как будто исчерпан. Груз доставлен, пострадавших нет.
— Боцман у нас герой… — произносит Лавада.
Три раза тонул боцман Искандеров. Во время войны, когда ходил в Америку. Это все знают, Искандеров охотно рассказывает за чаем, ночью, после смены вахт, в час морской «травли». Иных такое купанье испугало на всю жизнь, заставило уйти на сушу, а Искандеров, напротив, обнаглел. Решил, что море ему теперь по колено. Что Нептун ему свояк.
— Морской волк, как говорится.
«Он что, в самом деле не понимает меня?» — думает Алимпиев, стискивая поручни. Он собрался ответить, но в эту минуту на палубу выскочила буфетчица Изабелла.
— Ой! Ой! — смеясь, она закрыла пухлой ладонью глаза. — Как кипятком ошпарило.
— Завтрак стынет? — спросил ее Лавада и мягко взял капитана под руку.
— Стынет, дядя Федя.
«Очень кстати, — думает Алимпиев. — Если бы не ты, Изабелла, я бы, пожалуй, не сдержался, наговорил помполиту лишнего».
Они сели рядом на постоянные свои места, — Алимпиев во главе стола, а Лавада справа, на фоне бури, бушующей на полотне Такие бури, нарочито зловещие и словно копирующие некий привычный образец, настигали Алимпиева чуть ли не на каждом судне. Море за иллюминатором, подлинное море куда красивее.
Обычно Алимпиев вышучивал картину. Сейчас она досаждает ему. Ловя ножом растаявшее масло, он говорит, что ее пора снять. Вечный шторм в кают-компании! Хватит! Два радиста, допивавшие кофе на другом конце стола, сочувственно оживились.
— Живопись колоссальная, — говорит Боря.
Лавада хмурится. И у него картина не вызывает одобрения, больно уж мрачная. Но Борька издевается, откидывая назад колючую, неумело, лесенкой, подстриженную голову. Это всегда бесит Лаваду.
— Я предпочел бы вид на айсберги, — говорит Стерневой, сосредоточенно глядя в тарелку.
Лавада смеется. Боря безучастен, он даже не улыбается, пока смеется Лавада. Только слушает с вежливым, подчеркнуто вежливым вниманием.
«Бедный Борька, — думает Алимпиев. — За каждую мелочь ему достается».
Начальник рации — дотошный старик. Обнаружил в радиорубке после Бориной вахты пятна крови и щетки, валявшиеся на столике. Борька чистил аппарат, замечтался и забыл убрать щетки. Это с ним, увы, случается!
Попало ему, конечно, за дело. Но он не ленив, вместе с опытом придут и аккуратность, и выдержка. Вот если бы он перестал раздражать Лаваду своей усмешкой!..
Не забыл Лавада, как с этой своей усмешкой Борька произнес:
«Это же Ив Монтан!»
Неужели, мол, не узнали? Лавада и знать не хочет заграничных эстрадных певцов, а Борька упрямо, словно назло, записывает их на магнитофонную ленту и пускает по трансляции. И сообщает Лаваде, не моргнув глазом: Монтан, Бени Гудман, Эдит Пиаф…
Да, Папорков еще в первые дни рейса впал в немилость. Стерневого Лавада ставит в пример. Все ладно в нем! Правда, этот румяный увалень, с явственным — несмотря на свои двадцать пять лет — брюшком, работает лучше Борьки. Немыслимо и вообразить, чтобы он позабыл щетки, или посадил кляксу в вахтенном журнале, или торопливо, невнятно отстукал передачу. Иногда Алимпиеву самому трудно понять, почему все-таки не к Стерневому, а к Борьке лежит душа.
Вбегает Изабелла. «Славная Изабелла, до чего ты нам нужна, — думает Алимпиев. — Как много нам не хватало бы, не будь здесь тебя. Твоих песенок в буфетной».
— И попадет же вам как-нибудь от меня, — говорит она радистам. — Берегитесь!
Она сгребает корки со стола, хлебные шарики. Жестом грозит высыпать все это на Борьку.
— Правильно! — встрепенулся Лавада. — Учи их, учи, Изабелла!
Пританцовывая, она исчезает. Борька не смотрит ей вслед, хотя ему и хочется, наверно. Глаза у него делаются тревожными. Радисты допили кофе, ушли. И Лавада дает волю своему недовольству:
— Уборщицу для них нанимай специально… Срам!
«Сейчас сядет на своего конька», — сказал себе Алимпиев, но без всякого протеста. Корки, мятая скатерть действительно не радуют взор.
— Барчуков растят у нас, нянчатся, — вымолвил Лавада с горечью. — Отсюда всё…
Он мог бы еще добавить: «Я в их годы, знаете…» Алимпиев, конечно, знал. Лавада отправился на фронт с ополчением. Старые винтовки, бутылки с горючей смесью против танков.
Толчок воспоминаниям часто дает Изабелла. Ведь командовал ротой не кто иной, как отец ее, Мартирос Григорян. Это он поджег танк — Мартошка, друг Лавады с техникумских лет.
Вот была молодежь! А как брели через топи, пробиваясь к своим, жевали мох, дикий щавель! Один сухарь делили на пятерых…
Входит старпом Рауд. Он всегда завтракает последним. Не покажется в кают-компании прежде, чем не уложит свои мягкие, золотистые волосы.
Лаваду новый слушатель не стесняет.
— Фразы бросаем, — говорит он, отставив стакан. — Мы такой-сякой экипаж… Коммунистические обязательства! А ручки запачкать боимся.
Борька выбил-таки его из колеи. Возможно, Лавада в каком-то смысле подразумевает и историю с Искандеровым. Что ж, последнее слово за Лавадой?
Рауд молча вопрошает капитана: в чем дело? Алимпиев озабоченно, стараясь не замечать, жует бутерброд с сыром.
— А Искандеров орел. — Лавада теперь призывает в свидетели Рауда. — Стерневой уже развернулся, заметку послал в «Волну». От собственного корреспондента.
— Так, так… — Алимпиев встает. — Значит, подвиг боцмана…
Спорить с Лавадой, как видно, бесполезно.
Вернувшись в каюту, капитан рывком закрывает за собой дверь.
«Ты видишь, Лера? Честное слово, оставили бы меня на «Радищеве» старпомом…» Тут же Игорь спохватывается. Зачем это? Какое ей дело до него, пускай она смеется там, другому, в чужом саду!
Значит, Стерневой развернулся. Легко представить себе, как он расписал. Боцман Искандеров в минуту грозной опасности… Да, опасности для судна и для груза, рискуя жизнью… Ну и прочее и прочее. Эх, черт побери, хоть посылай вдогонку опровержение!
Тут Алимпиев представил себе знакомые комнатушки «Волны» — тесные, прокуренные, увешанные гранками, расписаниями, фотоэтюдами. Секретарь редакции Оксана Званская бросает опровержение в корзину, Алимпиев ясно видит удивление в ее веселых глазах: с ума, что ли, спятили там, на «Воронеже»?
Стерневой уж постарался. Звонких фраз ему не занимать. Впрочем, с него-то спрос небольшой.
Лавада посоветовал, верно…
С юных лет Алимпиев мечтал о морском братстве, о союзе простых, обветренных, честных. Судно представлялось ему святым местом, где не может быть обид, ссор, косых взглядов. И сейчас он бережет этот идеал, укрывает от разочарований. Немало их было. А здесь, на «Воронеже»… Никому не пожелаешь такого капитанства, как здесь.