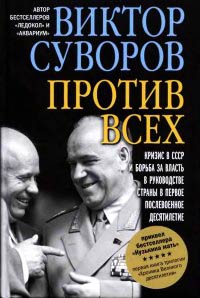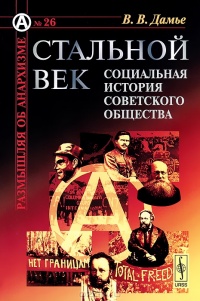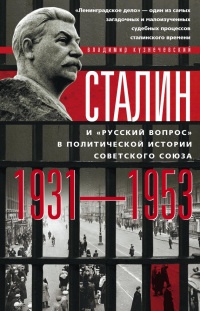Книга Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921-1941 годы - Майкл Дэвид-Фокс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По иронии исторической ситуации, хотя сама Беатрис Вебб была далека от сарказма, когда писала эти строки, она не знала, что средневековое варварство стало практически синонимом фашизма в антифашистской культуре Народного фронта. Сравнение со средневековьем начало использоваться и в комментариях немецких эмигрантов, проживавших в СССР и Европе, а в советской риторике оно стало доминирующим: «Фашистское средневековье» — таков был заголовок постоянной рубрики журнала «Интернациональная литература», появившейся после захвата власти нацистами и предназначенной для размещения материалов о сжигании книг, незаконных арестах и тюремных заключениях{850}. Взгляд на фашизм как на антимодерное, варварское явление, преобладавший среди представителей левого фронта, не давал им возможности увидеть модерные аспекты фашизма; национал-социализм представлялся им возвратом к варварству прошлых эпох, а не беспрецедентным новшеством. В одном из обзоров нацистской политики, напечатанных в СССР, милитаризм назывался даже не столь новым явлением, как уж и вовсе «далеко не новый культ личности, идея вождя». Отсюда следует, что многие упоминания о фашистских репрессиях, политической цензуре и терроре должны были столкнуться, хотя бы и неявно, со сравнениями с большевизмом. В упомянутой статье рассказывалось о том, что Геббельс, внимательно изучив фильм Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”», отметил, что фашистские фильмы делаются «в соответствии с большевистским методом». В конце же довольно сбивчиво объяснялось, что художественная и политическая сила советского фильма происходила из правдивого изображения подлинных отношений между людьми и классами в обществе. В советской статье 1936 года, описывавшей нюрнбергские нацистские съезды и проекты гигантских строек, уже не было сравнений с «новой жизнью, где царствуют свобода, труд и красота». Теперь применялось сравнение с эпохой фараонов{851}. Коммунистическая интерпретация фашизма как примитивного и атавистического явления поддерживала противопоставление варварства и цивилизации, прошлого и настоящего, насилия и гуманизма, лжи и правды.
Несмотря на то что в Советском Союзе и Европе антифашисты постоянно обвиняли нацистов в садизме и неутолимой жажде крови, старая большевистская традиция оправдания насилия продолжала бытовать среди просоветских западных интеллектуалов. В биографии Бертольта Брехта 1934 года, имевшейся в досье на писателя в Иностранной комиссии ССП, подчеркивались следующие ключевые моменты: он создал новый жанр «дидактико-публицистических» пьес, работал с 1928 года в тесном контакте с КПГ и был связан с человеком эпохи возрождения советской революционной культуры Сергеем Третьяковым. В самом деле, Третьяков присутствовал в Берлине на премьере брехтовской дидактической пьесы 1930 года «Меры приняты» («Die Maßnahme»), в которой ярко представлена беспощадность, необходимая, чтобы нажать на курок и убить товарища, не подчинившегося партийной дисциплине. Катерина Кларк отмечала, что в некотором смысле эта пьеса была уж слишком категорична и предвосхищала отдельные аспекты культуры эпохи сталинизма. Пьеса «Меры приняты» — ив целом упор на «беспощадность» (термин, который Брехт позаимствовал у Ленина) в среде авангардистов — стала плодом активного межнационального культурного обмена между Москвой и Берлином{852}.
Для гостя с Запада, посещавшего СССР, был еще один способ принять большевистскую беспощадность: постараться «стать своим». Хороший пример — молодой Артур Кёстлер, изгнанник венгерско-еврейского происхождения, увлекшийся сионизмом и вступивший в компартию в Берлине в 1929 году. Путешествие Кёстлера по Украине, Кавказу и Центральной Азии, начавшееся летом 1932 года, привело его голодной зимой 1932–1933 годов в Харьков, где рынок напоминал «сцену из Брейгеля или Иеронима Босха». Здесь он усиленно отрицал наличие голода и защищал официальную точку зрения, исходя из которой заслуженно страдали только враги народа — кулаки. В Баку любовная связь Кёстлера с русской красавицей благородного происхождения закончилась тем, что он выдал ее ОГПУ. Это не было абстрактным оправданием жестокости или нравоучительной агитацией за необходимость репрессий. Перед нами лишь последовательное «принятие мер» в собственной жизни, хотя этот инцидент потом преследовал смельчака всю его жизнь… Кёстлер пытался не только говорить как большевик, но и как настоящий большевик поступать. Затем, во время пятимесячной поездки в 1933 году в Центральную Азию, он подружился с американским поэтом Лэнгстоном Хьюзом, который вызвал восхищение Кёстлера своим присутствием на политическом процессе в Ашхабаде. «Полагаю, это было началом “Слепящей тьмы”», — писал Хьюз{853}. Он мог бы добавить: «и “Падшего Бога”». Чем ближе сочувствующий был к партии или политической культуре коммунизма, тем вероятнее он стремился перенять большевистскую жестокость заговорщиков, а не просто соблюдать запрет на признание факта политических репрессий 1930-х годов, последовавший за книгами Горького о Соловках.
Однако одобрять жестокость большевиков вполне можно было и безо всякого культурного обмена, близости к партии или большевизации. Во всех этих случаях молодая политическая культура страны Советов могла быть вдохновляющим фактором, но основной этический фундамент большевизма — революционное учение о том, что великая цель оправдывает жестокие средства, — основывался на европейской социально-демократической и революционной теории, с легкостью воспринятой независимыми политическими мыслителями разных направлений. Среди попутчиков это лучше всего видно на примере Бернарда Шоу. В свою неопубликованную книгу 1932–1933 годов «Рационализация России», предвосхищавшую оправдание насилия в его пьесах последующих лет, Шоу включил целый раздел об «искоренении», почти весело используя метафору «прополки сада». Как и Беатрис Вебб, Шоу уподобил сталинские репрессии проявлениям зверств в истории Западной Европы: «Кромвель заботился о том, чтобы уничтожить ирландцев, что было закономерной частью политики превращения Ирландии в английскую колонию… Краснокожие были истреблены в Северной Америке, как и бизоны». В развернутом оправдании Шоу массовых убийств фабианская социальная инженерия основывалась на утилитарных расчетах: «Вопрос не в том, убивать или не убивать, а в том, как выбрать нужных людей для истребления». При этом короткий визит Шоу в СССР в 1930 году поспособствовал тому, что он принял большевистскую версию данного утилитарного кредо. Всякий, кто противопоставляет себя коллективу, должен быть «ликвидирован как вредитель», и это «неизбежно и непоправимо в условиях жесткой морали коммунизма»{854}.
В предисловие к своей пьесе «На скалах» (1933) Шоу включил необычно основательное поучение, в котором развивал собственные мысли о политическом насилии. Драматург открыто признавал, что неправильно было бы применять жестокость ради самой жестокости, а что касалось новой большевистской модели, то «рано или поздно всем странам понадобится изучать ОГПУ». Современное уничтожение людей должно стать «гуманной наукой вместо жалкого смешения пиратства, жестокости, мести, редкостного зазнайства и суеверия, чем оно является ныне»{855}. Однако в продолжении пьесы «На скалах», а именно в новой драме под названием «Простачок с Нежданных островов», законченной Шоу в 1934 году, рациональная наука уничтожения превратилась в ужасающий хор всех действующих лиц, поющих «убий» и повторяющих заклинания уничтожения в эстетизированной коллективной гармонии{856}. Несомненно, Шоу был одним из тех интеллектуалов, которых равно увлекли и фашизм, и коммунизм.