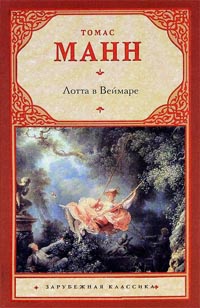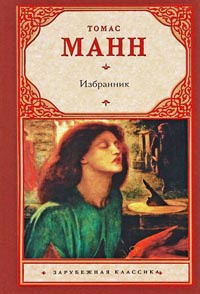Книга Будденброки - Томас Манн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Он заслуживает ее, — прервал Герду г-н Пфюль и в подтверждение своих слов кивнул головой. — Я иногда слежу за выражением его глаз… Оно многое говорит. Но губы мальчика всегда сомкнуты. Позднее, когда жизнь, быть может, еще плотнее сомкнет его уста, у него должна остаться возможность говорить…
Герда взглянула на него, на этого угловатого человека, на его рыжую шевелюру, мешки под глазами, на его взъерошенные усы и огромный кадык, протянула ему руку и сказала:
— Благодарю вас, Пфюль. У вас добрые намерения, и мы, вероятно, даже не подозреваем, как много вы для него делаете.
Благодарность самого Ганно и его доверие к учителю не знали границ. Ганно, который, несмотря на все занятия с репетиторами, тупо, без малейшей надежды что-либо понять, сидел над задачником, — за роялем понимал все, что говорил ему г-н Пфюль, понимал и усваивал так, как можно усвоить лишь то, что уже знаешь изнутри. И Эдмунд Пфюль, органист в долгополом сюртуке, представлялся ему ангелом, каждый понедельник берущим его в свои объятия, чтобы из будничной серости вознести в звучащий мир кротких, сладостных, умиротворяющих чувств.
Случалось, что занятия происходили у г-на Пфюля, в просторном старом доме с островерхой крышей, с множеством прохладных переходов и уголков, где он жил в полном одиночестве, если не считать старушки-домоправительницы. Иногда маленькому Будденброку дозволялось во время воскресного богослужения в Мариенкирхе сидеть на хорах возле органа, и он чувствовал себя совсем по-другому, чем внизу, среди прихожан. Высоко над паствой, даже над пастором Прингсгеймом, стоявшим на кафедре, сидели они оба среди гудящего, могучего потока звуков, который они освобождали из оков и подчиняли своей власти, — да, они, ибо Ганно, вне себя от счастья и гордости, время от времени помогал учителю в управлении регистрами. А когда смолкала заключительная импровизация после хорала, когда г-н Пфюль снимал пальцы с клавиш и только основной и басовый тоны, повинуясь его воле, еще звучали торжественно и негромко, и потом, после искусно выдержанной паузы, раздавался из-под навеса кафедры модулирующий голос пастора Прингсгейма, — случалось, что г-н Пфюль подсмеивался над проповедью и уж вовсе откровенно смеялся над стилизованным франконским выговором пастора, над его протяжными, глухими и резко подчеркнутыми гласными, его вздохами и постоянной сменой мрака и просветленности на его лице. Тогда смеялся и Ганно, потихоньку, но от всей души, ибо, не сговариваясь, оба они там, наверху, держались мнения, что проповедь — это довольно-таки пустячная болтовня, а подлинное богослужение — то, что пастору и его пастве представляется, вероятно, лишь подсобным средством для поднятия религиозности настроения, — иными словами, музыка.
Да, эти сидящие внизу сенаторы, консулы, бюргеры и их семейства мало что смыслят в его, Пфюля, искусстве; г-н Пфюль постоянно этим огорчается и потому тем более рад видеть рядом с собою своего маленького ученика, — ему хоть можно шепнуть: «Сейчас мы сыграем на редкость трудную пьесу». Он изощрялся во всевозможных технических тонкостях, сочинял «обратные имитации» — то есть такую мелодию, которая одинаково читается слева направо и справа налево, и на этой основе однажды создал «перевернутую фугу». Исполнив ее, он сложил руки на коленях.
— Никто и не заметил, — произнес г-н Пфюль, безнадежно покачав головой; и затем, покуда пастор Прингсгейм произносил проповедь, шепнул на ухо маленькому Иоганну: — Это была «ракоходная» имитация, Иоганн. Ты еще не знаешь, что это такое… Это воспроизведение темы в обратном порядке, от последней ноты к первой. Трудная штука. Со временем ты поймешь, что значит имитация в «строгом письме». Но «ракоходной» имитацией я тебя мучить не собираюсь и никогда не заставлю ею заниматься, — это не обязательно… И все-таки не верь тем, кто объявляет это пустой забавой, не имеющей музыкальной ценности. «Ракоходную» имитацию ты встретишь у великих композиторов всех времен. Только равнодушные посредственности высокомерно отрицают ценность подобных упражнений… А музыканту подобает смирение, запомни это, Иоганн!
15 апреля 1869 года, в день своего рождения, когда ему минуло восемь лет, Ганно вместе с матерью сыграл перед собравшейся родней маленькую фантазию собственного сочинения — простенький мотив, который он придумал, счел интересным и разработал в меру своих сил. Разумеется, г-н Пфюль стал поверенным этой тайны и изрядно раскритиковал творение Ганно.
— Что это за театральный финал, Иоганн? Он нисколько не соответствует целому; а дальше — зачем, скажи на милость, ты переходишь из H-dur в кварт-секст-аккорд четвертой ступени с пониженной терцией? Это штукарство. И вдобавок у тебя еще тремоло… Это уж ты где-то подцепил. Но где?.. А, знаю, знаю! Ты слишком внимательно слушал, когда я играл твоей маме. Измени-ка конец, мой мальчик, и у тебя получится премилая вещица.
Но как раз moll-аккорду и финалу Ганно придавал наибольшее значение. Это показалось его матери настолько забавным, что решено было все оставить без изменений. Герда взяла скрипку, сыграла верхний голос и, в то время как Ганно просто повторил фразу, проварьировала дискант до конца в ритме одной тридцать второй. Это прозвучало великолепно, ликующий Ганно поцеловал мать, и 15 апреля они исполнили его произведение перед родней.
Консульша, г-жа Перманедер, Христиан, Клотильда, г-н и г-жа Крегер, директор Вейншенк с супругой, а также мадемуазель Вейхбродт по случаю дня рождения Ганно в четыре часа отобедали у сенатора; теперь все сидели в большой гостиной, слушали и смотрели на мальчика в матросском костюмчике, сидевшего за роялем, и на Герду, какую-то чужую и неизменно элегантную, которая сперва исполнила на струне соль блистательную кантилену, а затем с совершенством подлинного виртуоза разразилась целым каскадом искристых, пенящихся каденций. Серебряная рукоятка ее смычка поблескивала в свете газовых ламп.
Ганно, бледный от волнения, почти ничего не ел за обедом; а сейчас он так самозабвенно отдался своему творению, которое, увы, через минуты две уже должно было отзвучать, что все окружающее для него исчезло. Эта маленькая мелодическая пьеска носила скорее гармонический, чем ритмический характер; крайне своеобразное впечатление производил контраст между примитивными, ребячески-наивными музыкальными средствами и значительностью, страстностью, даже изысканностью их подачи, их интонированья. Склонив голову немного набок, вытягивая шейку и всем корпусом подаваясь вперед, Ганно подчеркивал каждый переход, сообщая ему возможно большую значительность; он сидел на самом краешке стула и пытался с помощью правой и левой педали сообщить большую эмоциональную насыщенность каждому аккорду. И правда, когда он достигал какого-то эффекта, пусть только ему и заметного, то этот эффект носил скорее чувственный, чем чувствительный характер. Простейший гармонический прием благодаря полновесной, замедленной акцентировке приобретал своеобразное, таинственное значение. Какому-то аккорду, новому гармоническому ходу, вступлению, Ганно, высоко вскидывая брови, наклоняясь и делая движение, словно он собирается взлететь, сообщал посредством неожиданно возникавшего, приглушенного звучания нервически напряженную действенность.
И вот уже близится финал, столь полюбившийся Ганно, — финал, своей наивной приподнятостью венчающий всю пьесу. Среди разлива жемчужных пассажей скрипки тихо, чисто, как серебряный колокольчик, тремолирует пианиссимо E-moll аккорда. Он нарастает, ширится, медленно, медленно наполняется звучанием. В forte Ганно прибег к диссонирующему cis, возвращающему к основному тону, и, в то время как Страдивариус плавно и звучно обтекает это cis, мальчик, напрягая все свои силы, доводит диссонанс до fortissimo. Он медлит с развязкой, приберегает ее для себя, для слушателей. Что она сулит, эта развязка, это восхитительное, самозабвенное погружение в H-dur? Беспримерное счастье, небывало сладостное удовлетворение. Мир! Блаженство! Небо!