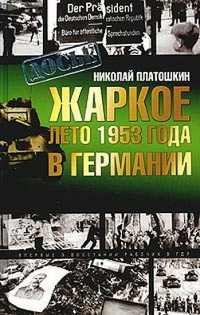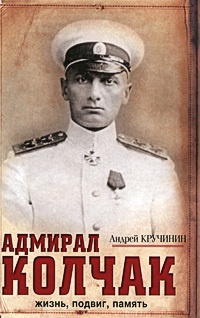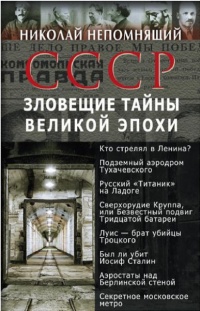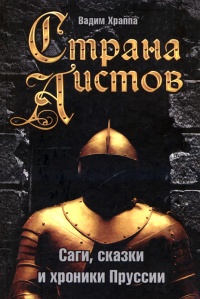Книга Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - Николай Эппле
Читать книгу Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - Николай Эппле полностью.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Книги схожие с книгой «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - Николай Эппле» от автора - Николай Эппле:
Комментарии и отзывы (0) к книге "Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - Николай Эппле"