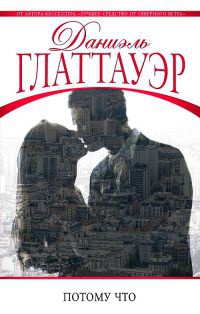Книга Piccola Сицилия - Даниэль Шпек
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Единственный способ пожениться, не возвращаясь в Тунис, лежал через местного раввина. А единственный раввин, который не станет пускаться в долгие расспросы и проверять новобрачных по списку членов общины, – тот, кто сам здесь временно.
Лагерь, куда их направили, располагался около Рима. Он тоже был переполнен, но в лагере имелся госпиталь, и слова Альберта «я врач» открыли перед ними двери. Кров и еду они должны были отрабатывать, поскольку денег у них больше не было. Регистрируясь как Signor e Signora Sarfati, Мориц впервые не чувствовал себя лжецом. Хотя это все еще была ложь. Но ощущалось как правда. Они сдали свои паспорта, и американский солдат опрыскал их с ног до головы средством от вшей.
Лишь очутившись внутри, на просторной территории, Мориц осознал, куда они попали. Этот лагерь был особым. Киностудия. Cinecittà, киногородок. Итальянский «Бабельсберг». Пять тысяч беженцев ночевали в огромных павильонах, которые Муссолини распорядился возвести, сознавая могущество кино. Мориц видел пропагандистские фильмы, снятые здесь. Сияние Римской империи, озаряющее новую Италию. И еще он видел дешевые комедии для народа, хлеб и зрелища, кино как оружие. Он очутился в самом сердце фашистской фабрики грез. Посреди того, что от нее осталось, бегали дети в опорках вместо обуви. На веревках сушилось дырявое белье, а женщины в платках, кожа да кости, помешивали варево в котлах на открытом огне. Там и сям валялись предметы реквизита из исторических фильмов про римлян. Разбитые бюсты, колонны из крашеного дерева, статуи римских богов – словно падшие ангелы. Когда они вошли в большой павильон, на воротах которого все еще имелась надпись «SILENZIO!», на них так и обрушились шум, вонь и массы людей со всего света, спрессованных во временных закутках. Стенки из картона и деревянных кулис разделяли загончики, в которых семьи спали прямо на полу, с занавеской вместо двери. На гвоздях висели брюки вперемешку с кастрюлями, тут же – кривоватая Мадонна с Иисусом на руках; пара стульев и стол – словно из другого мира, белое барокко, реквизит из костюмного фильма, – а на нем семисвечный подсвечник, наскоро сооруженный из деревяшек. Им выделили десять квадратных метров, три соломенных тюфяка между картонными стенками – и это было все. Рядом женщина прикрикнула на плачущего ребенка: «Перестань орать, а то мы тебя здесь оставим!»
Нет, здесь явно не то место, чтобы остаться. Это был зал ожидания между старой и новой родиной. Но вполне подходящее место, чтобы пожениться. Уже в первый день Альберт познакомился в лазарете с раввином из России, который на смеси французского с ивритом поведал, что как раз на прошлой неделе сочетал браком молодых людей, которые здесь и встретились. Раввин был старый, с вытатуированным номером на руке, еще слабый от перенесенного тифа. Его звали Рубен Тейтельбаум. Альберт навсегда запомнил его имя, потому что по всей медицинской логике старику давно следовало умереть, а он излучал энергичное, почти пугающее жизнелюбие.
– Все ученые утверждают, что шмель не может летать, – говорил старик. – Законы физики. Он слишком тяжелый. Но он все равно летит. Почему? Потому что ему надо, mon ami.
Тейтельбаум не стал задавать лишних вопросов, когда Альберт представил ему свою дочь и ее жениха. В лагерях среди евреев установилось негласное правило – не оглядываться назад. Они не говорили о пережитых ужасах, носили длинные рукава, чтобы прикрыть номер на запястье, а вечерами пели песни. Как Орфей и Эвридика на пути из Аида. Кто оглянется, там и останется. Выживет тот, кто хочет жить. Раввин спросил лишь об одном – о происхождении Жоэль.
– Отец погиб, – сказала Ясмина. – Он был с теми, из Хаганы.
Раввин кивнул и ласково погладил Жоэль по голове. Он перевидал много детей без отцов.
– Хорошо, что ты нашла нового мужа. Гзейра аль ха’мет шейиштаках ме’халев. Мы должны оплакать мертвых, сказано в Писании, но потом мы должны их забыть.
Он не спрашивал Морица о его бар-мицве, не требовал выписки из реестра общины. Большинство людей потеряли документы в огне. Паспорта Морица было достаточно, потому что кто же будет добровольно носить красный еврейский штамп в такое время? Но Тейтельбаум хотел знать, будет ли он хорошим отцом ребенку, хотя этот ребенок не его. Морицу не пришлось врать, потому что он действительно хотел этого; он был с Жоэль от ее рождения и любил как собственную дочь. И она его любила, это Тейтельбаум чувствовал.
– Наш народ – единое большое тело, – сказал он. – В детях вся наша надежда.
Он не допытывался, откуда происходит семья Морица. Итальянский еврей из Туниса, фотограф, человек, этого ему было достаточно. Вместо этого он спросил:
– И куда вы теперь?
Этим Тейтельбаум отличался от большинства мужчин его возраста, взгляд его был устремлен в будущее.
– Мы пока не знаем.
– А вы уже говорили с друзьями из Моссад?
Альберту вопрос не понравился. Он расшатывал его картину мира. До войны большинство раввинов – как и раввин Piccola Сицилии Якоб – были противниками сионистов. Рабби Якоб не желал распада своей общины. Однако да, там, откуда прибыл рабби Тейтельбаум, больше не было никакой общины. Синагоги разорены, свитки сожжены, люди истреблены.
– Не знаю, увижу ли я когда-нибудь Иерусалим, – сказал Тейтельбаум. – Все в руке Божьей. Но вы-то молодые и сильные. Поезжайте туда, на кораблях Хаганы, и если у вас нет денег, вам не надо платить, есть щедрые спонсоры.
Эта возможность все время лежала перед ними, но они не видели ее. Меньше всего Мориц. Подобная мысль казалась ему абсурдной, дерзкой, невозможной. И главное, как отнесется к этому Альберт, не отзовет ли свое благословение. Из-за того, что не хочет отпускать туда дочь, или потому что сионистская идея, распространявшаяся словно пламя, отняла у него сына? А может, идея эта заставляла его усомниться в том, кто он сам? Ведь Альберт, всегда плывший против течения, извлек из Катастрофы иной вывод, чем большинство. Он убедился, что национализм есть источник всех бед, а не их решение.
– Наша диаспора обогащает мир, – говорил он. – Мы, евреи, граждане мира, наш дух не признает границ, зачем нам добровольно обносить себя границами?
Но возможно, именно это и требовалось Ясмине – обнести себя границами, защититься от всех угроз мира. Ее слабость крылась в том, что между ней и миром не было никакой границы.
– Но там неспокойно, ненадежно, – возражал Альберт. – Это всего лишь мечта, этот Эрец Израэль.
– Нет, – отвечали ему бойцы из Пальмаха, раздававшие в лагере книги, билеты на корабль и оружие. Элитные войска Хаганы. Крепко сбитые, бело-синий флаг на стене над их столом. – Это не мечта. Вы уже есть. Эрец Израэль рождается здесь, в лагерях! Он родится из вас, из тех, кто лишился всего – денег, страны, любимых. Неважно, откуда вы, неважно, что у вас позади, мы вам рады!
Слыша такое, Мориц начинал понимать тайну их успеха. У них не было особого оружия, но они обладали иным – тем, что давало им силу. Историей. После того как нацисты попытались искоренить историю их народа, они сочиняли новую. Свою собственную. Историю возвращения. Историю народа, который после разрушения его храма в Иерусалиме странствовал по миру, но нигде так и не обрел своего дома. Доселе миролюбивый и тихий народ, которому теперь пришлось взяться за оружие.