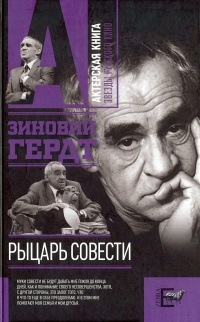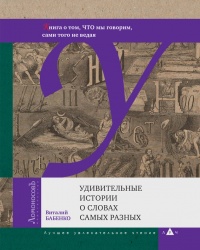Книга Песенка для Нерона - Том Холт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ладно, признаюсь, тем более вы уже и сами догадались, так что какой смысл вам лгать? Поднимаю руки вверх и чистосердечно признаюсь: я влюбился.
Нет, не совсем то слово. Представьте, что вы идете под дождем и вам надо перемахнуть канаву; вы прыгаете и попадаете на самый край — некоторое время равновесие удается удерживать, но потом вы начинаете съезжать вниз, ничего поделать нельзя и в конце концов вы оказываетесь в этой самой канаве по колено в грязи. Примерно так я потихоньку и соскальзывал в любовь; вероятно потому, ну, что при моем образе жизни нечасто встречаешь красивых девушек, да и вообще любых девушек, а общение с ними длится ровно столько, сколько нужно, чтобы сказать: проваливай, козел — или позвать стражу. Как я уже говорил, она была довольно симпатичная на свой манер и на двадцать лет младше меня; но самое главное, она была тут. Когда за двадцать четыре года вам встречается всего одна девушка, с которой удается перекинуться более чем парой дюжин слов… и да, я не забыл про Миррину, но я думаю, ее пример только лишний раз доказывают мою мысль. Я запал на нее быстрее, чем вы бы луковицу очистили; не потому, что у нас было много общего и не потому, что мы оказались двумя половинкам одной души, как у Платона, но всего лишь из-за того, что при моем образе жизни, если говорить об общение с противоположным полом — это практически вечность.
Ладно, с этим разобрались, можно возвращаться к моей истории.
Мы сошли с корабля в Пирее, добрались до конюшни, чтобы забрать лошадь. В результате передо мной сразу встала проблема. Как мне представлялось при отплытии на Делос, я буду возвращаться домой верхом, ведя свою новую рабыню домой на веревке. Теперь, когда я влюбился, такой расклад уже не представлялся уместным. В любой другой ситуации объект моей любви поехал бы на лошади, а сам я пошел бы рядом пешком. Но мозги у меня размягчились все-таки не настолько, чтобы позволить Бландинии сесть верхом. Было весьма вероятно, что стоит ее заднице коснуться попоны, как она пнет меня в лицо и ускачет в общем направлении Фив и далее на север.
Поэтому я выбрал компромиссное решение. Мы оба пойдем пешком, а я поведу лошадь в поводу.
Она, должно быть, не уловила деликатности положения, потому что через некоторое время спросила:
— А почему ты не едешь верхом?
— Ох, — сказал я. — Просто подумал, что после корабля мне не помешает размяться, вот и все.
— Понятно, — сказала она. — Тогда позволь ехать мне. У меня только эти сандалии с тонкой подошвой, я все ноги сбила.
Я вскинул голову.
— Тебе не подходит моя лошадь, — сказал я. — Очень костлявая спина. Я-то привык, но тебе совсем не понравится.
Она пожала плечами.
— Как хочешь, — сказала она. — Но только я не привыкла ходить пешком — во всяком случае не по сельским дорогам. Внутри зданий, вверх и вниз по лестницам, по улицам — да; рабы весь день проводят на ногах. Но все эти камни, корни и прочее прямо ломают мне лодыжки.
В ответ я промолчал и она оставила эту тему — и хорошо. Вместо этого она спросила:
— Когда мы доберемся до твоего дома, что я буду делать?
Я почувствовал себя полным идиотом: я же ей не сказал.
— Будешь прислужницей, — сказал я. — У моей матери.
— О, — она, кажется, обрадовалась, дурочка. — Я никогда раньше не прислуживала дамам. Но, — продолжала она, — навидалась их достаточно, Бог свидетель, в Золотом Доме. Мне всегда казалось, что это приятная работа. Следить за одеждами, помогать хозяйке с волосами, иногда готовить к вечернему приему — ты это имеешь в виду?
Я подумал о своей дорогой матери, глыкающей неразведенное прямо из кувшина и проливающей на пол суп.
— Что-то в этом духе, — сказал я. — Ну и немного всякой работы по дому время от времени.
— Звучит неплохо, — сказала она. — Во всяком случае, лучше многих других дел. Ты знаешь…
Она остановилась, я тоже остановился, а лошадь продолжала идти как ни в чем не бывало, пока я не дернул за повод.
— Наверное, я должна поблагодарить тебя, — сказала она. — Я имею в виду, после всего того, что я натворила в Риме. Кое-какие мои поступки были просто ужасны.
Да пожалуй, можно и так сказать, подумал я.
— Ну, — сказал я, — тогда было тогда, а сейчас — это сейчас, и я думаю, лучше нам не копаться в прошлом.
— Ну да, — сказала она. — Наверное, ты прав. Но некоторые захотели бы расквитаться. И на самом деле я не злой человек — о, я знаю, сказать просто, и ты не обязан верить, но я не считаю себя злой, но в общем я всегда делала то, что было необходимо, чтобы уйти от всего плохого — ну ты понимаешь, от Золотого Дома. Мне казалось, что пока я не стану совершенно свободной, всегда останется вероятность, что я вернусь к тому, с чего начала, или даже к чему похуже. Я просто боялась, наверное. Но… ну, теперь я знаю, что ты не такой, и если ты сможешь мне поверить, дать еще один шанс, я клянусь — со всем этим покончено. Я хочу где-то остановиться. Я могу работать, что бы мне не пришлось делать, и знаю, что ничего плохого не случится, если я сама все не испорчу. Вот и все. Извини, — добавила она. — Звучит очень глупо и жалко. Но как бы там ни было, именно это я и хотела тебе сказать.
Последовала долгая тишина, которую прервала только решившая помочиться лошадь.
— Как я и сказал, — проговорил я наконец, — по мне так мы оставили все позади, так почему бы нам не вести себя так, будто ничего и не произошло? Так будет лучше для всех, если хочешь знать мое мнение.
Но на лошадь я ей сесть так и не позволил.
Когда мы достигли Филы, уже почти стемнело. Всю последнюю милю она спрашивала: — далеко еще? — а я отвечал: — скоро придем, а она говорила: — ну, когда уже? — по крайней мере насчет отсутствия привычки к ходьбе по аттическим дорогам она не соврала, потому что чем ближе мы подходили к дому, тем медленнее она шла, тащилась так, будто умирает от изнеможения в Ливийской пустыне. Поэтому, когда до фермы оставалось не более двух сотен шагов, и она в очередной раз спросил:
— Далеко еще?
Я кивнул и ответил:
— Да нет, миль десять всего осталось, до рассвета будем дома.
Когда я распахнул ворота и мы вошли во двор, она все еще всхлипывала.
— Это здесь? — спросила она.
— Да, — сказал я.
— О, — сказала она.
Смикрон, один из моих сирийцев, как раз вышел из конюшни.
— Привет, — сказал он. — Хорошо съездил?
А я ответил:
— Неплохо, — и бросил ему поводья.
Он посмотрел на Бландинию, но ничего не сказал. Не думаю, что она его вообще заметила.
Под дверью пробивался свет, а значит, либо мать была еще в сознании, либо свалилась, не погасив светильников. К счастью, оказалось, что верно последнее, потому что я был не в настроении представлять их друг другу после долгой прогулки по горам. Когда мы вошли, она лежала на полу в красной луже. Бландиния завизжала и попыталась выпрыгнуть из кожи. К счастью, этого оказалось недостаточно, чтобы разбудить маму.