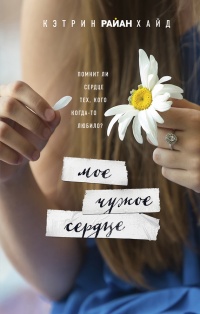Книга Радуга тяготения - Томас Пинчон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вот примерно теперь переваливают Чичерин и Джакып Кулан через невысокие шиханы и спускаются в аул, который искали. Селяне собрались кругом — весь день у них байрам. Тлеют костры. Посреди толпы расчистили пятачок, и даже из такой дали слышны два юных голоса.
Это айтыс — певческое состязание. В глазу всего аула стоят юноша и девушка, и у них происходит эдакая насмешливая — ну-ты-мне-как-бы-нра-вишься-хотя-в-тебе-к-примеру-пара-странностей-имеется — вроде как игра, а мелодия шныряет туда-сюда из кобыза и домбры, на которых плямкают и тренькают. Народ хохочет над удачными строчками. Тут главное — не расслабляться: обмениваетесь четырехстрочными куплетами, первая, вторая и четвертая строки в рифму, хотя длины произвольной, лишь бы дыхания хватало. Но все равно дело хитрое. Доходит и до оскорблений. В некоторых аулах после айтыса партнеры по многу месяцев не разговаривают. Когда Чичерин и Джакып Кулан въезжают в аул, девушка высмеивает лошадь противника, которая… ну, самую малость, ничего серьезного, однако все равно кряжистая… вообще-то на самом деле — жирная. Очень пузатая. Парня это задевает. Он заводится. В ответ выпуливает про то, как соберет всех своих друзей и расхерачит и ее, и всю ее семью. Публика реагирует эдаким «хмм». Никто не смеется. Девушка улыбается как бы через силу и поет:
Ты, как я гляжу, хлещешь кумыс,
И в речах твоих плещет кумыс.
Что ж ты делаешь, друг, когда брат мой
Ходит, краденый ищет кумыс?
Ой блин. Помянутый брат сейчас лопнет от хохота. Парнишка в ответ поет уже не слишком радостно.
— Это надолго. — Джакып Кулан слезает с коня и разминает колени. — Вон он сидит.
Очень старый акын — странствующий казахский певец — дремлет с пиалой кумыса у костра.
— Ты уверен, что он…
— Споет. Он всю эту землю насквозь проехал. Не спеть — это он свое ремесло предаст.
Они садятся, им передают пиалы сброженного кобыльего молока с кусками барашка, лепешками, горстью земляники… Юноша и девушка бьются голосами — и Чичерин вдруг понимает, что скоро кто-нибудь явится сюда и начнет записывать вот такое Новым Тюркским Алфавитом, который он помогал лепить… и вот так все это канет.
То и дело он поглядывает на старого акына, который не спит — только притворяется. На самом деле он излучает некий наказ певцам. Доброту. Ощущается безошибочно, как жар углей.
Медленно, по очереди оскорбления пары становятся мягче, забавнее. В ауле мог случиться апокалипсис, но теперь вместо него уморительное сотрудничество — будто у пары комиков в варьете. Они из кожи вон лезут, чтоб угодить слушателям. Последнее слово за девушкой:
Ты про свадьбу обмолвился вдруг?
А у нас и так свадьба, мой Друг, —
Это шумное наше веселье,
Этот наш теплый песенный круг.
И ты мне все-таки нравишься, хотя есть в тебе что-то эдакое… Пиршество набирает обороты. Голосят пьяные, болтают женщины, а малышня ковыляет то из юрт, то в юрты, да и ветер разогнался. Затем странствующий певец принимается настраивать домбру, и возвращается азиатское молчание.
— Ты все уловишь? — спрашивает Джакып Кулан.
— Застенографирую, — отвечает Чичерин, и «г» у него несколько глоттально.
ПЕСНЬ АКЫНА
С края света явился я.
Из легких ветра явился я.
Ужас такой мои видели очи,
Что даже Джамбул не воспел бы его.
Страх в моем сердце настолько силен,
Что железо резать ему нипочем.
В старых преданьях рассказы есть
О тех временах, что не помнит Коркыт,
Который добыл из древа ширгай
Первый кобыз и первую песнь, —
И в те времена в далекой земле
Горел негасимый Киргизский Свет.
В той земле неизвестны слова,
А очи горят, что свечи в ночи,
И лик Бога таится там
За непроглядной маской небес —
У высокой черной скалы в пустыне,
Когда наставали последние дни.
Будь та земля не так далека,
Будь ей известны и слышны слова,
Бог бы тогда золотым был кумиром
Или же в книге бумажным листом,
Но Он сияет Киргизским Светом,
Как-то иначе Его не познать.
Рев Его гласа — сама глухота,
Блеск Его света — сама слепота,
Стопы Его сотрясают пустыню,
На лик Его не взглянуть никому.
И человек не бывает сам свой,
Если узрит он Киргизский Свет.
И говорю вам: Его я видал
В дальней земле, что древнее тьмы,
Куда не заглянет даже Аллах.
И вот борода моя — сплошь изо льда,
Мне шагу без посоха не ступить,
Но этот свет обратит нас в детей.
Мне теперь не уйти далеко,
Мне нужно снова учиться ходить,
А речи мои льются вам в уши,
Точно младенца бессмысленный лепет.
Киргизский Свет глаза отнял мои,
И я чую всю Землю, как несмышленыш.
Ехать на север нужно шесть дней
По саям крутым и серым, как смерть,
Затем по камням пустыни к горе,
Чьей вершины белая юрта видна.
И если в пути не случится беда,
Черный кекур сам вас найдет.
Но если рождаться вам не с руки,
Оставайтесь у теплых красных костров,
И под боком у жен, в аулах родных,
И свет вас тогда никогда не найдет,
И сердце отяжелеет с годами,
И очи закроются только во сне.
— Есть, — грит Чичерин. — Поехали, товарищ. — Снова в путь, за спиной догорают костры, звенят струны пирующего аула — но вот уже его и поглотило ветром.
Стало быть — в саи. Далеко к северу в последнем свете дня мигает белая вершина. А тут, внизу, уже затененный вечер.
Чичерин достигнет Киргизского Света, но не собственного рождения. Никакой он не акын, и сердце у него никогда не было готово. Свет он увидит перед самой зарей. Тогда он 12 часов проваляется навзничь в пустыне, в километре под спиной у него доисторический город грандиознее Вавилона в задушенной минеральной спячке, а тень высокого кекура, заостряющегося к верхушке, танцует с запада на восток, и над Чичериным хлопочет Джакып Кулан, суетливый, как дитя с куклой, а на двух конских шеях высыхают кружева пены. Однако настанет день, и, как и горы, как и ссыльных поселенок с их бесспорной любовью к нему, с их невинностью, как утренние землетрясенья и ветер-тучегон, чистку, войну и миллионы за миллионами душ, изошедших за ним, Его он едва вспомнит.
Но в Зоне, таясь в глуби летней Зоны, Ракета — ждет. Снова так же притянет его…