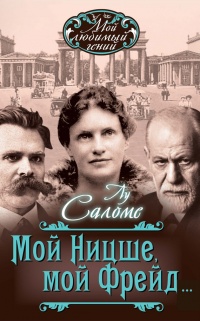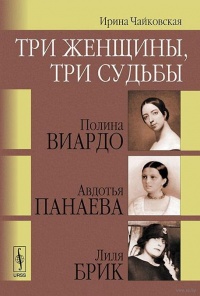Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хочется целовать тебя, целовать, ласкать… — я со слезами вспоминаю эти ночи. Валерий, счастье мое светлое, останься таким, как ты был в этой комнате, в эти дни, дай увидеть хотя раз то нежное, светлое лицо.
Жду тебя, люблю тебя…
Нина — Брюсову. 13 февраля 1907. Москва.
Не беспокойся, любимый зверочек, я почти совсем здорова. По крайней мере нет жару и выхожу. Было мне плохо только в пятницу и особенно в субботу. Лежала в постели, t° 39, думала, совсем заболею. Теперь ничего. Остались лишь какие-то смутные ощущенья, но это уже всё пустяки. Будет о моей «болезни» — смешно даже говорить. Вот ты, зверочек, хвораешь… Сегодня уже, собственно, 10-й день ты болен. Как долго! Кто тебя лечит? Может быть, эти новые «золотые часы» ничего не понимают? Не сердись, милый, что я все спрашиваю, — но ведь я сейчас ни о ком и ни о чем, кроме тебя, не думаю. После Нижнего так и не могу и не умею войти в окружающее. Помню все, чувствую тебя, говорю с тобой, закрываю глаза и целую, целую тебя. После долгих недель и месяцев опять живу. Ах, только бы верить! Я пока умею верить только в те счастливые дни, когда ты действительно со мной и очень любишь. Как только чуть-чуть набежит тень на твою душу, я падаю в отчаянии и думаю, что все пропало навсегда, и каждую встречу считаю последней. Но весь этот месяц, с 19-го, говорит о чем-то другом, о новом. Вспомни, какие это были дни, ясные, светлые, простые. Если мы останемся такими, разве будет возможно расстаться, уйти, отдать себя чему-то другому? Разве возможно, Валерий?! Ты считал меня жестокой, требовательной, осуждал, негодовал. Может быть, был прав и ты, может быть, и я, — об этом больше не надо говорить. Но посмотри, куда все ушло, где всё? И только от твоих ласковых слов, от нежных глаз, оттого что однажды пришел ты таким, какого мучительно и напрасно ждала я долго, долго. Не понимая, должно быть, где сущность, я говорила все не о том, мучила тебя и себя. А ведь просто то как! Все только в твоей душе, а не в «ней» и ни в чем внешнем, и не может она ни помешать, ни коснуться нас, потому что все соединившее нас ей неведомо и чуждо, как жителю иной планеты. Когда я буду видеть тебя всегда близкого, всегда родного с моими нежными глазами, — что я могу спросить с тебя, чего требовать?.. Ты сам не захочешь ни мучить, ни обижать. Я просто доверюсь тебе, всей душой, всей жизнью. Ты веришь, Валерий? Правда, что настал миг последнего выбора, последнего окончательного решения. Рассеялись тучи, что долго-долго закрывали голубое небо и солнце. Разве захочется уйти теперь? Куда? Зачем? Нам так хорошо… И я покорно и с последней светлой нежностью говорю, — навсегда. Скажи и ты, и ты! Скажи еще раз. Не бойся меня, я стала совсем хорошая, — это не слова. Правда. Будем еще ближе. Будем говорить все, без боязни. Страх создает ложь. Не надо больше лжи, ни твоей, ни моей. Люблю тебя, мой милый, ласковый зверочек, хочу тебя, твоей близости, твоих ласк с неизменной влюбленностью, точно каждая встреча — первая. Выздоравливай. Как хорошо мы встретимся, как много, много я буду целовать тебя. И ты… Будем? Ты захочешь? Но не выходи, пока не поправишься совсем, ты хрупкий, как маленький ребенок. Не думай обо мне ничего, ничего дурного. Я живу тихо, одиноко, только с тобой. Пиши, так радуюсь на твои письма…
Брюсов — Нине. 25 июля 1907. Москва.
…Не слишком ли мы всё узнали, не слишком ли всё проанализировали! Ах, трудно сочетать анализ с живым чувством, — хотя такое сочетание и будет венцом человеческой души!
Ты представляешься мне медиком у постели больного, а больной этот — наши отношения (не хочу сказать наша любовь!). Неустанно Ты ставишь один диагноз за другим, все более и более точно определяя болезнь. Всматриваешься, вдумываешься во все симптомы и всё поправляешь себя. А больной в это время умирает, ему нужны лекарства, сейчас, немедленно, а Ты, боясь ошибиться, только размышляешь над ним…
Дорого мне и рад я, что берешь Ты назад иные свои обвинения, которые были очень несправедливы и очень жестоки. Только вот в чем дело: не важно сейчас, совсем Ты права, или не совсем, или совсем не права. Не рассуждать нам должно сейчас, а что-то делать. Не определять болезнь, а лечить ее!
Нина, дорогая, хорошая, милая! Еще и еще раз обращаю к Тебе всё те же рассуждения. Есть две аксиомы. Первая: «Мы должны быть вместе». Вторая: «Мы таковы, каковы мы». Конечно, если одна из них не истинна, нечего и говорить дальше. Но если истинны обе, надо найти средний путь, ведущий между ними. Надо сделать так, чтобы каждый из нас, оставаясь самим собою, мог быть с другим. Требовать, чтобы переменились чувства, чтобы изменилась душа, — безумие. Больше я от Тебя ничего такого не спрошу, и Ты не спрашивай такого от меня. Но неужели для тех нас, каковы мы теперь, нет единения, нет путей вместе, не рядом только, но действительно вместе!
Нина, Ниночка! я очень Тебя люблю, я очень хочу быть с Тобой, — не так, как последнее время, но близко, близко, тесно, слитно душой, как телом. И наперекор всем тучам, закрывшим весь наш небосклон, все еще, безумно, верю я и в солнце, и в ясный день. Сделай шаг ко мне, не уходи прочь, не отрекайся от меня, а я протягиваю руки к Тебе — всегда.
Скучаю без Тебя, Нинка, в Москве, без Твоего голоса, без Твоего лица, без Твоих губ…
Нина — Брюсову. 25 сентября 1907. Петербург.
… Пишу тебе в 7 часов утра. Но не думай дурного. Я захворала в вагоне, должно быть, от холодного шабли ночью сделался жестокий кашель. Да вот и не проходит. Не сплю совсем, в голове туман, грудь болит, лекарство не помогает. Петербург поэтому воспринимаю 1/4 своей души… Нигде не была… сидела одна, сонная, и кашляла. Так до сумерек. А потом, только не «в золотой час» (в Петербурге ужасная погода), а в серый, пришел Ауслендер (С. Ауслендер — прозаик, поклонник Петровской. — И. Т.). Ах, знаю, с этого места ты перестаешь верить. Но я скажу тебе всю правду. Это свиданье не было таким, как мы, шутя, с тобой говорили. Не говорил «дай», «будь моей», вел себя скромно, как ребенок. Он по-настоящему хороший мальчик. Я в Москве этого и знать не могла. Мы оба тогда немножко прикинулись, говорили декадентские слова. И вдруг вся эта глупость пропала. Встреча была хорошая и простая, простая, точно давно друг друга знаем. А от этого стал невозможным тон «легкой» влюбленности. Смотрел он нежно, говорил, что очень меня любит, что меня в Петербурге считают близкой, целовал руку, но все это не было ни пошло, ни грубо, а как-то хорошо и чисто в глубине. Что я думаю по поводу всего этого? Что я чувствую? — мне хочется сказать тебе совсем правду, хотя эта правда ведь маленькая и уж никак и ничем не может огорчать твоей любви. Я думаю, что эта ясная простота — знак хороший, она уничтожает элемент пошлой и по-дурному легкой случайности, что это одна из тех встреч, где главное и единственное даже — дружественность, а отсюда и невозможность ни говорить, ни слушать: «Будь моей». Он мне кажется маленьким мальчиком, нет, минутами даже девочкой, и клянусь тебе, душа у меня сейчас такая серьезная, строгая, верная и от тебя (но это хорошо) усталая, что у меня в мыслях нет никакого намерения «легко» провести несколько дней. Таких встреч в моей жизни уж, должно быть, и не будет. Легкость притягивает легкость, а печаль и серьезность не способствуют этому. Ну что же еще? Ну, он красивее, чем мне казался в Москве. У него совсем головка девочки, и в лице не мертвенность, а невинность и нежность. Был у меня до 12 часов. И вот смешно, — клялся мне (хотя я этой клятвы не спрашивала), что с Кузминым (поэт, драматург, литературный критик. — И. Т.) никогда этого (намек на известную гомосексуальность Кузмина. — И. Т.) не было, что это ему органически противно. А Кузмин чуток и обидчив, понял невозможность и не стремился. Говорил так убедительно, что я поверила, хотя жалко. Какая-то очень интересная черта отпала. Ну вот, зверь, и всё. Ты, конечно, не веришь. А я буду рассказывать всё, день за днем. Все здесь полно памятью о тебе. Зверь мой, опасный, мучительный зверь, я люблю тебя и жизни без тебя не могу представить. Мой интерес «к душам» не считай для себя изменой. Ведь если около меня никогда никого не будет и я стану совсем рабой, как твоя жена, ты меня так же и разлюбишь от этого сонного спокойствия. Бросай «шар» в самые страшные пропасти, не то что в Петербурге, и знай, — он всегда упадет назад тебе в руки. Ты — моя судьба. Это страшно, но хорошо. Я уже больше не спорю, принимаю от тебя все как счастье. Ах, что же ты думаешь сейчас обо мне? Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком… В нем есть настоящая тонкость души. А я иногда люблю быть с людьми, когда они не грубы, как Бунин, и не хамы, как Зайцев. Я бы могла говорить иначе. Но зачем, зверочек, не пугай меня подозрениями, осуждениями, и я никогда не буду лгать тебе. Я люблю тебя. Мой каждый шаг озарен этой любовью, особенно теперь, я узнаю все новое и высшее. Разве ты не чувствуешь, как стали мы близки? И это чудесно после жестоких ссор и уверений в отчужденности. Пять дней я помню и здесь каждую минуту. А вдруг опять придет «безумие»? Ты склонен к нему больше, чем я. Я никогда не забывала, что люблю тебя. Никакие «отпадения» не могли бы выбросить из души твоего образа. А ты…. Страшно мне, и страх этот все сильнее. Напиши мне, напиши.