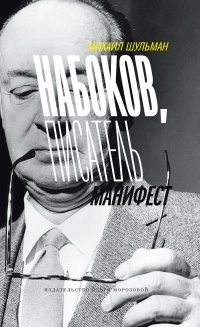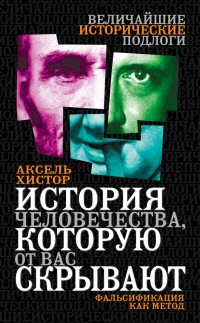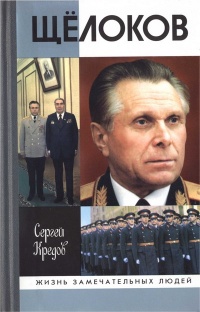Книга Врубель - Вера Домитеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ангел с душой Тамары и Демон. Бумага, акварель. 1890–1891 гг.
Десять лет готовивший эту картину автор, по примеру Александра Иванова, долго, множеством вариаций искал центральную фигуру сцены и пришел к тому же слиянию мужских и женских черт, соединив портретный этюд сутулого, привычно униженного мужика с обликом изможденной крестьянки. В итоге на холсте не просто нищий безлошадник, а внутренне неприятный мужицкому собранию по-бабьи рыдающий, причитающий слабак. Не только последний по достатку, но вообще не такой, как все, безусый, безбородый, сообща презираемый — другой. И общий приговор собрания сведен к двум откликам: издали и сбоку молчаливо застывшие профили либо затылки, а прямо на зрителя, позади искаженного, залитого слезами лица тесный ряд улыбок, усмешек, ухмылок — смеются.
Непривычный регистр у этой традиционной в русской демократической живописи «хоровой» картины. Господи, что же, эти лица с насмешкой, с откровенной издевкой над слабым и опозоренным, язык не поворачивается — это народ? Сельские богатеи, как поясняли толкователи советских времен. Многовато вроде на одного бедняка, но предположим. А сумрачно и безразлично молчащие, у которых ни капли утешения, ни толики протеста? Присутствует еще пара осатаневших добровольных обвинителей, больше никого.
Жанрово-бытовых аналогов картине Сергея Коровина не находится, однако сюжет толпы, глумящейся над отверженным, в русской живописи уже появлялся. Этот образ — осмеянный народом Христос — годами преследовал Крамского, воплотившись в его самой большой и самой мучительной картине «Хохот (Радуйся, царю иудейский!)». Толпу фарисеев, осыпающих Христа глумливой бранью, представляло запрещенное к показу большое полотно Николая Ге «Суд Синедриона». Вообще, параллели мышлению Сергея Коровина, одинокого среди жанристов, легко отыскиваются в религиозно-философской живописи. И вопрос художника, развивавшего евангельскую тему в образах грубой повседневности, был посложнее актуальных изобразительных трактовок Нового Завета. Осмеянный и преданный, принявший крестные муки Христос воскрес, восторжествовал над гонителями, а на какую же победу мог рассчитывать убогий, до дрожи запуганный герой картины «На миру»?
Об этой только что законченной картине Михаил Нестеров написал другу: «Вещь замечательная и судьба ее, вероятно, выдающаяся». Не угадал. Уважая нравственный призыв художника-реалиста, его верность народной теме, Третьяков купил «На миру», но публика, завидев очередной унылый рассказ «о деревенских мироедах и угнетенных крестьянах» (цитата из рецензии «Петербургского листка»), спешила мимо устаревшего сюжета.
Какой выход предлагал живописец, прокричавший, что там, где люди смеются или угрюмо молчат, глядя на чужое страдание, унижение, жить невозможно? Срезанные краями холста силуэты крестьян, покидающих сходку, — пролог большой серии композиций Сергея Коровина, начало странствия его богомольцев, беспокойных скитальцев, вечных искателей правды. Надо идти. Надо верить в ждущую тебя обитель утешения, утоления печалей. Хотя у всей серии оттенок какого-то безостановочного безнадежного блуждания. Часто повторяется мотив одинокого прохожего, почти автопортрет: высокий чернобородый мужик, чуть согнувшись под закинутым за спину узлом и опустив суровое лицо, упорно, не смущаясь отсутствием попутчиков, шагает по пустынной дороге к монастырю.
На пробуждение душ подле церковных алтарей Михаил Врубель не надеялся.
Он это полагал миссией искусства — «иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми образами». Хотя в понимании творчества как способа «иллюзионировать» дремотное сознание одному очень серьезному исследователю врубелевского творчества почудился холодок манипулятора. А действительно, не перегнул ли Врубель? Люди и так норовят абы чем забыться, уклониться от честного постижения действительности, а тут еще властные художники будут вводить в заблуждение, морочить голову мечтами, заведомо несбыточными грезами. Зачем? Чтобы вместо трудного, тяжкого выправления бесчеловечной жизни запросто, без аэропланов летать в эфирных высях?
Чтобы летать!
Созданный вскоре после переезда в Москву «Демон сидящий» и родившийся вслед ему цикл иллюстраций к поэме о Демоне подвели итог опыту киевских открытий, трагедий и страстей. Московские годы надолго, почти на десяток лет закрыли демоническую тему в искусстве Врубеля. Художник как будто перестал нуждаться в непосредственно исповедальном образе своего даймона. Зрелость ознаменовалась сдержанностью. Парящая над ложем рыцаря «Принцесса Грёза» или написанный во время медового месяца бурный «Полет Фауста и Мефистофеля» трактовали созвучия авторских чувств с мировой поэзией, а не терзания собственной разверстой души. На скучной земле обнаружилось немало вдохновляющих мотивов. У Врубеля была интересная работа, было вознаградившее романтика удивительное супружеское счастье, определились его достаточно прочные позиции в Московском товариществе художников и в петербургском «Мире искусства». И вот когда существование наконец-то обрело устойчивость, в конце 1898 года Михаил Врубель в письме Римскому-Корсакову сообщает о себе — «готовлю „Демона“».
Довольно неожиданное возвращение к «духу изгнания». Почему вдруг? Что-то стряслось? Роковых событий в 1898-м вроде бы не происходило. Год, напротив, был из наиболее благополучных. Начался он с выступления на Выставке русских и финляндских художников, где, несмотря на критику, разругавшую декадентское «Утро», Врубель, согретый почтительным вниманием Дягилева и горячим восхищением Тенишевой, скорее чувствовал себя героем. Одновременно завязалась отрадная дружба с Римским-Корсаковым. Весна в Москве прошла весело («кутим напропалую», как сообщала сестре Забела-Врубель). Летом Врубель писал играющий солнечными бликами портрет жены, любовался тестем, который позировал для «Богатыря» и рассказывал о своих юных петербургских встречах с Лермонтовым. Теплые отношения сложились с Надиным младшим братом Андреем, только что женившимся отставным поручиком, помещиком, увлеченным делами нежинского земства, а Петр и Катя Ге стали совершенно родными людьми. Уютно, по-семейному праздновалась вторая годовщина свадьбы Врубелей.
Правда, именно в то лето Катя, которая год назад «удивлялась кротости и незлобивости Михаила Александровича», заметила появившиеся у него «раздражительность и нетерпимость, высокомерное отношение ко всякому отзыву». Но, возможно, какие-то критические замечания родственников о живописи Врубеля впрямь были не очень уместны. К тому же осадок от грубых газетных рецензий, к тому же глубокая рана, нанесенная трактатом Толстого. Временами Врубель, видимо, ощущал себя в положении затравленного героя картины Сергея Коровина «На миру». Как и автор этой непонятой, непризнанной картины, защищался щитом гордыни. Хотелось улететь.
Напомнил о Демоне пушкинский «Пророк». Петр Петрович Кончаловский к столетию со дня рождения Пушкина подготавливал иллюстрированное издание по типу юбилейного лермонтовского двухтомника. Собирал различных художников, пригласил, разумеется, и Врубеля. Врубель наметил себе сюжеты нескольких произведений («Пророк», «Песнь о вещем Олеге», «Египетские ночи»…), но с исполнением книжных иллюстраций медлил, зато «Пророка» написал на холсте.