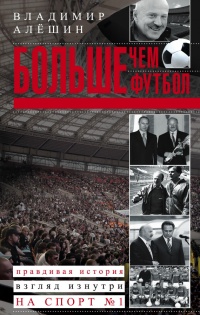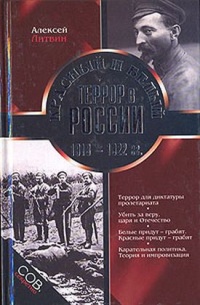Книга От Северского Донца до Одера. Бельгийский доброволец в составе валлонского легиона. 1942-1945 - Фернан Кайзергрубер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Есть еще одно воспоминание, о котором я должен рассказать, поскольку такое случалось крайне редко и практически не проявлялось в то время. Речь идет о чувстве сострадания по отношению к нам. Хоть мы никого и не просили ни о каком сострадании! Это было бы ниже нашего достоинства. Мы требовали лишь беспристрастного правосудия и человеческого обращения. И не получили ни того ни другого, хотя со временем режим заключения смягчился, стал чуть более «либеральным». Но, как вы потом увидите, такое происходило далеко не во всех лагерях. Вот что мне запомнилось. В канун Рождества с улицы до нас вдруг донеслась музыка, исполняемая слаженным музыкальным ансамблем! Что поначалу вызвало у нас недоумение, поскольку целая вселенная отделяла нас от звучания серенад, которые оказались рождественскими гимнами и мелодиями, исполняемыми оркестром и хором Армии спасения под стенами нашей тюрьмы! Один из активистов, вооруженный мегафоном, даже обратился к нам: «Для наших заключенных, для ВСЕХ заключенных!» – подчеркнул он. Подробностей я уже не помню, но речь шла о мире, любви, солидарности, понимании и надежде на скорейшее освобождение. Нас искренне тронуло это обращение, поэтому мы все приумолкли. По крайней мере, я точно был растроган. Музыканты были единственными, кто сделал открытый публичный жест по отношению к нам, причем во времена, когда каждый был подавлен террором и не осмеливался проявлять к нам добрые чувства. Это внимание, которое в наши дни может показаться малозначительным, имело в тот момент столь важное для нас значение, что я никогда не забывал о нем. Помимо наших семей и нескольких друзей, крайне редких в то время, оказывается, нашлась группа людей, которые думали о нас и открыто продемонстрировали это. В ту эпоху нужно было обладать незаурядной смелостью для подобного поступка. Мои строки можно считать выражением благодарности, хоть и запоздалой, но от этого не менее искренней.
На самом деле пара журналистов и несколько известных личностей несколько раз, более или менее робко, поднимали голос в нашу защиту – увы, без особого общественного резонанса и без малейших улучшений условий нашего содержания. Кажется, я уже говорил об этом, но боюсь, что мог и забыть, и тогда кто-нибудь вдруг решит, будто я забывчив!
И ради мира, чтобы воцарилась справедливость, раскаявшись, покорно просим мы прощенья.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА[111]
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.
Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
И вот наступает день отправки во Дворец правосудия, где мы предстанем перед своими судьями. Мне назначено на 6 июля 1946 года, ровно на 9:00 утра. И если час назван со всей пунктуальностью, о трибунале такого сказать нельзя, потому что в зал суда меня ввели то ли перед самым полуднем, то ли чуть позже. Я попросил своего адвоката, с которым повидался еще раз, чтобы он ничего не говорил и ни о чем не просил, но он ответил, что просто обязан это сделать. В таком случае, сказал я, пусть говорит как можно меньше и, самое главное, никакой жалости! Думаю, мой адвокат уважает меня, в особенности за то, что я ни от чего не отрекаюсь и не намерен ронять свое достоинство. Но оставим высокопарный слог. Вот я сижу на «позорной скамье» подсудимых и наблюдаю за этим представлением, за военно-полевым судом и всеми сопутствующими ему ритуалами. Обшитая панелями Большая палата суда достойна лучшего применения. Огромное распятие и картины с глупейшими аллегорическими изображениями. Несмотря на всю их помпезность, позолоту и витиеватость, я просто не могу воспринимать их всерьез. Почти все кажется мне смехотворным! Все эти благообразные старцы с печальными лицами, которые, по идее, должны выглядеть серьезными. Но я не особенно их разглядывал, мое внимание привлекают лишь их пышные одеяния. Передо мной расположился состав суда. Словно для работы на конвейере. Здесь же и журналисты, высматривающие свои жертвы. Их намного больше, чем зрителей. Среди последних один из моих братьев, уже освобожденный. Еще двое друзей и две сестры. И вдруг я замечаю своего бывшего школьного учителя. По наивности полагая, что он здесь из-за симпатии ко мне, я слегка киваю ему, как и дорогим мне людям. Но он сверкнул на меня глазами так, словно желал испепелить на месте! И провел ладонью по горлу, словно говоря: «Ты заслужил, чтобы тебе глотку перерезали!» Тогда я вспоминаю, что он учитель математики, в которой я не слишком преуспевал и даже не воспринимал всерьез. Он считал себя христианином, но никогда не показывал этого. Он одобрял убийство, не принимая при этом участия в травле. Желчный и раздражительный, он никогда не поощрял мои каламбуры во время уроков. Но это его право. Тем не менее я не смог сдержать улыбку, более того, я громко рассмеялся, потому что он показался мне таким нелепым, и это, похоже, было им отлично понято.
Во всем остальном я присутствовал здесь в качестве зрителя, однако смотрел представление несколько отстраненно, не выставляя себя напоказ, но и не скрывая своих чувств, словно все это не имело ко мне никакого отношения. Когда подошла моя очередь, я встал, как мне было велено, и сел, когда меня попросили это сделать. Председатель трибунала говорил 2 или 3 минуты, прокурор 10 минут, пару минут говорил мой адвокат. Мне тоже хотелось высказаться, но мне велели попридержать язык. Менее чем за 20 минут меня осудили на 20 лет заключения особо строгого режима, хотя ничего экстраординарного в этом не было. К такому сроку приговаривали сотни и тысячи из нас. Сроки заключения не слишком меня волновали – не более, чем остальных, поскольку они мало беспокоили большинство из нас. Говорю это не из хвастовства. Именно так относились к приговору большинство моих товарищей, многие из которых до сих пор живы и могут подтвердить мои слова. Своему адвокату я сказал, что чувствую себя немного униженным, поскольку меня не приговорили к смерти, но не более того. Вот так все и происходило. За четверть часа или за 20 минут нас приговаривали, как на конвейере, к 10 или 20 годам заключения. Вряд ли потребовалось бы больше времени, чтобы осудить на пожизненное заключение или на смерть, поскольку длительность процесса или суда, за исключением некоторых особых случаев, не имела ничего общего с тяжестью оглашенного приговора. В том или ином регионе, порой даже в разных судах одного юридического округа, одно и то же дело могло завершиться пятью годами заключения в одном месте, двадцатью в другом, десятью годами в одном суде и пожизненным заключением в другом!