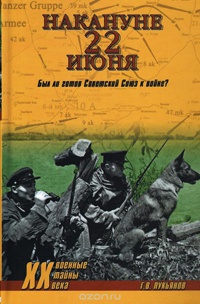Книга Кронштадт - Евгений Войскунский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Нет, товарищ Иноземцев, — сказал Волков, удерживая себя от рыка, застрявшего в горле, — это вы не можете преодолеть своих штатских привычек.
— Мои штатские привычки, товарищ комдив, на минных полях подорвались!
— Тихо, тихо, — почти примирительно сказал Волков. — Что вы смотрите на меня, как тореадор на быка? Никто не умаляет ваших боевых заслуг. И Слюсаря. Всех офицеров «Гюйса». Но никакие заслуги не могут оправдать выходку штурмана.
Он закончил совещание на жесткой ноте. Выдвижение старшего лейтенанта Слюсаря на должность дивизионного штурмана отменяется. За пьянство и нарушение порядка в Доме флота Слюсарь арестовывается на десять суток с содержанием на гауптвахте. Командиру и военкому принять меры к улучшению воспитательной работы…
Потом в каюте Козырева, раскуривая трубку, Волков бросил:
— Механик ваш! Хлебом его не корми — дай поспорить. Что вы его в меридиан никак не введете?
Козырев промолчал, а Балыкин, тоже вошедший в командирскую каюту, провел ладонью по тяжелой своей челюсти — будто качество бритья проверил — и сказал:
— В том, что механик говорил, Олег Борисыч, есть резон. Не надо бы помкоменданту к морякам придираться. А насчет споров… Вообще-то Иноземцев у нас безотказный. Не лезет он в споры, просто характер такой — не терпит, если ущемляют самолюбие.
— Самолюбие! — проворчал Волков. — Не ты ли, Николай Иваныч, называл его красной девицей? Штатские замашки пресекал?
— Было. Но с тех пор, Олег Борисыч, больше года прошло. А год был серьезный.
— Обратилась красна девица в добра молодца, — усмехнулся Козырев. — Извините, товарищ комдив, у нас командирская учеба сейчас начинается. Может, побудете?
— Нет. — Волков выколотил трубку в пепельницу.
Вечером Козырев играл с Иноземцевым в шахматы. Тут вечернюю оперативную сводку стали передавать: ожесточенные бои в районе Сталинграда, бои в районе Моздока… На северо-западной окраине Сталинграда противник бросил в наступление еще одну танковую дивизию, ценой больших потерь потеснил наши части…
Безрадостная сводка. Одно только и было в ней приятное сообщение: «Наш корабль в Балтийском море потопил немецкий транспорт водоизмещением 10 000 тонн».
— Лодки третьего эшелона действуют, — сказал Козырев.
Он знал это от Федора Толоконникова, приходившего на днях на «Гюйс» проведать брата. Федор опять собирался в море. Ему досрочно присвоили звание капитана третьего ранга, и ожидались большие награждения всего экипажа его «щуки». Если по правде, Козырева кольнула зависть, когда он увидел на рукавах Федорова кителя новые нашивки — три средних. Первым из всего их выпуска Федор Толоконников получил производство в старшие командиры.
Виду Козырев, конечно, не подал, поздравляя Федора, но в душе позавидовал. В училище он готовил себя к службе на надводных кораблях, мечтал об эсминцах, а теперь вот пожалел, что не пошел в подводники. Огромную мощь торпедного оружия ощутить бы в своих руках! Ах, ты ж, господи, в Данцигскую бухту, к немецким берегам, чуть ли не к проливам уходят лодки второго и третьего эшелонов!
Положим (трезво осадил он себя), никто бы не назначил меня после окончания училища — с подмоченной-то анкетой! — на подплав. Куда там… Не угодно ли на тральщики, товарищ лейтенант За-Кормой-Не-Чисто? Но теперь-то, когда неприятности позади… теперь можно бы проситься на подплав… Фантазия, фантазия! Командира надводного корабля не отпустят в разгар войны переучиваться на подводника. Нечего тешить себя несбыточной мечтой…
После сводки пошла классическая музыка. Теперь стали по радио больше классики передавать. Стук метронома, заполняющий пустые часы, и классика. И тревожные сводки…
«Средь шумного бала, случайно», — начал чей-то (не Козловского ли?) мягкий тенор — и тут же этот голос оторвал капитан-лейтенанта Козырева от земли, а вернее, от металлической корабельной палубы и унес в горние выси, в туманные сферы, где, строго говоря, нечего было ему делать.
Поистине твои черты покрывает тайна, непостижимая для меня (думал Козырев). Ты моя загадка, мое мучение… не хочу больше вспоминать о тебе, сгинь!
— Тут битая ничья, — сказал Козырев, поднимаясь из-за стола.
Он вышел из кают-компании и взялся было за ручку двери своей каюты. Помедлил однако. В пустом освещенном коридорчике будто таилось нечто недосказанное. Козырев прошел в глубь коридора, приотворил дверь Слюсаревой каюты, спросил в темноту:
— Спишь, Гриша?
— Нет, — ответил Слюсарь. — Заходи.
Козырев нащупал выключатель, зажег свет. Слюсарь, жмурясь, сел на койке. Он был в сером свитере, в шерстяных носках. Черная грива волос стояла дыбом, он стал приглаживать ее ладонями.
— О чем задумался, друг заклятый?
— Ты, наверно, хотел, чтоб я переживал взыскание? — сказал Слюсарь с усмешечкой. — Не-ет, мне это ни к чему. Бабу одну вспоминаю. Как мы с ней в Ростове, понимаешь… Хорошая была баба. Вот такой формации, — показал он руками.
Козырев задумчиво смотрел на него:
— Не пойму, почему ты любишь себя выставлять хуже, чем ты есть?
— Я разве нехорошее сказал? Ты за баб разве не думаешь?
— Ладно. — Козырев шагнул к двери. — Не буду тебе мешать. Вспоминай дальше.
— Погоди, Андрей! Сядь. Поговорить надо.
Козырев сел на стул. Осенний дождь вкрадчиво шуршал за иллюминатором, задраенным броняшкой. Снизу, из носового кубрика, доносились невнятные голоса и смех, стук доминошных костей.
— Говоришь, я выставляюсь хуже, чем я есть, — сказал Слюсарь. — Как это понимать?
— А так и понимать. Поступки у тебя такие, будто нарочно хочешь напороться на неприятность.
— Поступки, значит. А на самом деле я хороший?
— Ну, не знаю. — Козырев усмехнулся. — Штурман ты хороший.
— Штурман я хороший, — кивнул Слюсарь. — А человек плохой.
— Брось, Гриша.
— Плохой, — настойчиво повторил тот. — Завистливый. Тебе в училище завидовал. Я ведь огородным пугалом выглядел рядом с тобой — красивым, умным, удачливым…
— Хреновину несешь, — с досадой сказал Козырев, поднимаясь.
— Нет, дай уж мне сказать. Сиди! Я, если хочешь знать, за тобой тянулся… Ну, за такими, как ты… Недолюбливал, но тянулся. Заседание комитета помнишь? Ты тогда сидел пришибленный, гордый нос опустил — мне это было приятно. Хороший человек посочувствовал бы, а? Верно? А мне приятно было. Я и проголосовал тогда — сам помнишь… А на другой день — помнишь? — пришел к тебе, сам себя силком приволок, можно сказать… Ты что мне ответил? Таким презрением облил, что ни в какой бане не отмыться…