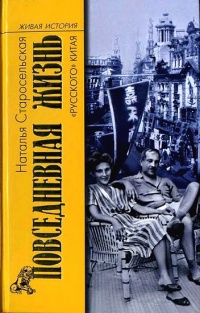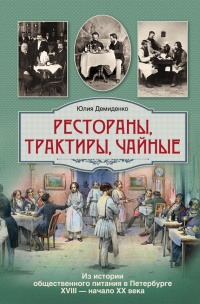Книга История журналистики Русского зарубежья ХХ века. Конец 1910-х - начало 1990-х годов - Владимир Перхин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Беда в том, что советские руководители во многом поняли букву, но пока не могут понять духа, а с буквой думают играть. Предстоит еще долгий и трудный путь борьбы за свободу. Чехословакия 1968 года была на нем вехой.
Николай Александрович Тюльпинов (р. 1940) – журналист, литературный критик. Работал в районных газетах Урала и Горьковской (ныне Нижегородской) области. После окончания Литературного института им. М. Горького – сотрудник «Литературной газеты» и журнала «Советская литература» на иностранных языках. В 1980-е годы жил в Париже.
Год на излете. Год с такой магической цифрой в своем числе («88») – необычный в российской истории.
Кому как (утверждать не берусь), но мне кажется, что не только в России, а и во всех уголках земного шара чувствовалась необычность этого года. Событие, которое произошло, известно всем. Оно отмечалось всем мировым обществом, хотя оно вроде бы не вселенского масштаба. Вроде бы и серьезных последствий оно не несет не только для всего человечества, но и в масштабах страны, однако его отголоски разносились по всему свету.
При всей значимости этого события, оно на самом деле находилось как бы в тени других событий, более ярких, более броских, более плакатных.
Перечислим хотя бы некоторые из них.
Начало вывода советских войск из Афганистана; освобождение Матиуса Руста; волнения в Армении и в Нагорном Карабахе; сенсационные выступления советской прессы за издание книг и возвращение Солженицына на родину и т. д., и т. п. Вести о них подхватывались средствами массовой информации и находили во всем мире отзвук. Одним из тех событий было и то, о котором мы говорим: 1000-летие Крещения Руси.
Надо сказать, что его приближения советское руководство ожидало с нервозностью, иногда с раздражением. И это понятно: обойти юбилей молчанием было невозможно. Но и отмечать с размахом, с пышностью, с помпой, привычной для других, гораздо, конечно, более скромных юбилеев, нельзя: против убеждений, против идеологических установок. Вот тогда-то, еще за несколько лет до юбилея, выполз из недр идеологических лабораторий новый термин: принятие христианства.
Вроде бы и то же самое, что Крещение, а вместе с тем не то же самое. Принятие – что-то, как будто если и не насильственное, то и не совсем добровольное. Это во-первых. А во-вторых, принятие – это что-то вроде политического акта ничего общего с духовной жизнью не имеющего. Вроде как ратификация какого-нибудь договора.
Но и еще и другое слово было пущено в ход: введение христианства.
Это что же такое? Введение войск? Введение военного или чрезвычайного положения? Введение комендантского часа? Новая регламентация жизни?
Как назвать, как будто особого значения не имеет. Но в данном случае совершенно очевидно желание приуменьшить значение исторической даты, умалить ее; налицо попытка извратить самый смысл события и перекрасить, перелицевать. Точнее: лишить его всякого смысла.
Но событие было. Событие произошло. От него никуда не деться, никуда не уйти. Юбилей приближался, и власть предержащие должны были повернуться к нему лицом. Хотелось это им или не хотелось, но они вынуждены были по крайней мере создать видимость заинтересованности или даже – участия.
Живые нервы теле-, радио– и прочих коммуникаций разносили из Москвы благие вести о подготовке к празднованию и о праздновании – о том, что по советскому телевидению транслировалась Пасхальная заутреня (пусть и глубокой ночью, скрытно от телезрителей, но все же – впервые!); о том, сколько гостей съехалось, кто приехал на торжества и как торжества проходили. По многим странам Европы разъезжал (не сказать же – гастролировал) хор Троице-Сергиевой Лавры. Но что более всего поразительно, так это то, что на страницах советской прессы стали появляться выступления священнослужителей. Почему более всего поразительно? Да потому, что раньше это было немыслимо. Потому что раньше немыслимым было, чтобы на газетной или журнальной странице появилось изображение церкви с крестами. Если это по недосмотру случалось, виновнику грозили немалые неприятности.
He в столь стародавние времена верующему в СССР надо было скрывать, что он верующий. Да и вовсе даже не в столь давние, а в совсем свежие и очень хорошо нам известные.
Теперь, как видно, положение резко изменилось.
Пожилая женщина, как пишет в одном из летних номеров американский журнал «Тайм», говорит корреспонденту: «Я больше не боюсь признаваться людям, что я христианка». И, как живописует корреспондент, «слезы хлынули у нее по щекам». «Молодая мать, – умилительно рассказывает корреспондент о своей другой встрече на пути в Загорск, – держит за руки двух своих ребятишек и замечает: – Я надеюсь, что они будут носить крестики с гордостью».
Нет сомнения в том, что празднование Тысячелетия всколыхнуло Россию, однако жизнь, действительность не располагает к сентиментальности, не располагает к романтичным настроениям. При всем стремлении советского правительства дать видимость того, что этому событию придается в СССР подобающее значение, создать видимость заинтересованности, участия, заботы о верующих и нуждах Церкви, создать впечатление терпимости к вере, оно ждало юбилея с приличествующим нетерпением, которое выдавало подлинные настроения: поскорее бы отпраздновать да и забыть!
Мы стали свидетелями рукопожатия в Кремле – рукопожатия богоборческой власти и Церкви. Мы были свидетелями невиданного собрания духовенства в Большом Театре. Государство вернуло Данилов монастырь, вернуло Оптину пустынь, вернуло Валаам, вернуло обитель на Соловках, вернуло Толгскую обитель на Валдае. Можно воскликнуть: какая щедрость! Но задумаемся: по сути, ведь оно, государство, бросило под ноги Церкви поруганные, растерзанные и оскверненные святыни. Да притом лишь малую толику того, что Церкви принадлежало и было отнято. Главное же – веру, поруганную, оскверненную, растерзанную и разрушенную, отнятую у народа, оно вернуть не в состоянии. Да даже если бы это было и в его власти, оно легло бы костьми, все сделало для того, чтобы вера на русскую землю не возвращалась.
Наступила видимость мира. По крайней мере – перемирия.
Хорошо это или плохо? Разумеется, хорошо, и любой в подтверждение, что это хорошо, приведет известную поговорку о том, что худой мир лучше доброй ссоры. Но скажите, отчего это в самый разгар торжеств врываются тревожные чувства и настроения? Не оттого ли, что «братание братанием», но мы-то знаем, что за тем «братанием»? Мы-то знаем, чего стоит заигрывание власть предержащих с Церковью. Мы-то знаем, что ни на одну минуту власть предержащие не забывают о своих целях – уничтожении Церкви, искоренении веры. Мы-то знаем, что видимые послабления сопровождаются прежним упорством и натиском на религию и веру – только способами более скрытыми, а потому и более коварными. Мы-то знаем, что главной задачей власти последних десятилетий было загнать деятельность Церкви за церковную ограду, уж если веру и религию не удалось до конца искоренить. Мы-то знаем, что видимость послаблений ничего не стоит. Мы знаем, наконец, и то, что кровью мучеников за Христа отстояла Церковь свою жизнь и свое бытование на русской земле. Не благодаря благосклонности и терпимости власти, а как раз наоборот, вопреки ее ожесточению, злобе, вероломству и насилию.