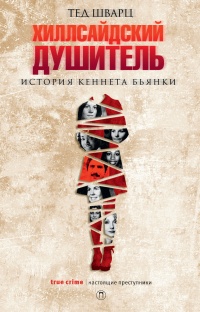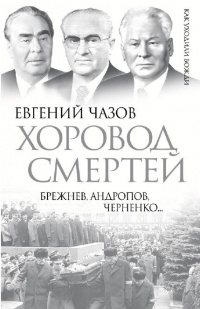Книга Позвонки минувших дней - Евгений Шварц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сегодня открылось наше отчетно — выборное собрание в Таврическом дворце[170]. Зал поначалу был переполнен, к трем часам начал заметно пустеть. К вечеру гости разбежались. Во всем огромном зале остались только писатели, да и то не полностью. Весь предполагаемый порядок дня нарушался в течение дня дважды. Один раз — когда вместо очередного выступления в прениях объявили содоклад Базанова. Такое впечатление, что люди почувствовали, что совещание не наладилось, заедает, буксует, и засуетились. Мне предстоит выступать завтра. Осталось два содоклада: мой да Саянова. Я полон ужаса и словно промок насквозь, и при этом не под дождем. Кочетов со мною важен и надменен, и на меня производит ужасающее впечатление, что это может на меня произвести впечатление. Что мне до него — а вот поди ж ты!
Доклад, который я читал, понравился и вызвал, на мой взгляд, даже слишком много разговоров. Тут обиделся Чевычелов. И все те, которые утверждали, что критикую я его слишком мягко, все раздраженные моим так называемым успехом за спиной готовят что‑то, во всяком случае сговариваются с Чевычеловым. И даже секретарь по пропаганде Козьмин сказал: «Ну, это вы его уж слишком стукнули». Словом, я неосторожным движе — нием привел в действие ядоперегонную конструкцию. А это мне вовсе не по характеру. Я хочу одного: «оставьте меня в покое». А здоровое желание: «дайте додраться» — к сожалению, никогда не было мне свойственно. Сначала я испытывал древнее мое удовольствие от того, что я — как все. А теперь осталась одна брезгливость. Вот и всё. И среди этого комплекса на первом месте брезгливость к самому себе: как может пугать меня перешептывание и суета за моей спиной. Вот и всё еще раз. Нам выдали билеты на «Стрелу» и удостоверения, что избран на съезд писателей с правом решающего голоса. Едем в понедельник, да еще 13–го числа. Предполагается, что съезд продлится до 25–го числа.
Что я думал, сидя на совещании? Подымающиеся амфитеатром сплошные ряды кресел казались мне похожими на огромную ванну, поднявшуюся до самого почти верха стены. Купальщики виднелись по грудь в волне. А иной раз казалось, что амфитеатр сделан из пластической массы, в которой, как в воске, некий штамп впечатал правильные, глубокие вмятины — проходы. А один проход, отчетливо видимый с моего места во всю глубину, круто ограниченный креслами, казался мне похожим на ущелье. Или, говоря точнее, — явлением родственным, как кошка тигру. Еще что?
Я в Москве, живу в девятом этаже гостиницы «Москва» и как будто домой вернулся — так мне все тут знакомо и удобно, и главное, получил отдельный и достаточно просторный номер. В Союзе полная неразбериха и толпится разноязычный народ, причем спокойнее всего приезжие. Их положение ясно, и они уже определились. А москвичи — основная масса — еще не получили гостевых билетов. Да и мы, законно избранные делегаты, получили только временные удостоверения, только временные, хотя к съезду готовимся с шумом и с криком более полугола. Если не больше. Правда, временные, то есть постоянные — были уже готовы и отпечатаны, но их кто‑то не утвердил. Вчера устроена была встреча в Кремле[171]. Только и разговоров о ней. О речи Шолохова[172]. Бог ему судья. Я спокойнее, чем ждал, хотя имел се — годня неприятный разговор с Маршаком по поводу его статьи в «Правде». Разговор вполне дружеский, но явно Алексей Иванович говорил, и говорил строже с нашим шефом, чем я мог бы… Завтра II съезд открывается.
Второй съезд открылся. Мы пришли в Кремль к часу. Как во сне или на картинке — все чисто — чисто и не для проживания, а для других проявлений человеческого общества. Для молитвы? Возможно. Ровные площади, а на площадях церкви, знакомые с детства, но приведенные в тот же отчетливый, почти абстрактный, как на картинке, а быть может и на проекте, вид. Площади, залитые асфальтом, невелики по количеству и размерам церквей. Великолепен Успенский собор, Иван Великий с переходами лестниц, Благовещенский собор. Я вдруг вспоминаю сон, который вижу постоянно: я вхожу в церковь с невысокими сводами в росписях, в старинных иконах по стенам. И Благовещенский собор напоминает мне этот сон так ясно, что и я на время не проживаю в тех привычных измерениях, к которым привык, присоединяюсь ко всему окружающему миру. Конечно, построен этот мир не для человеческого проживания, но и не для молитв, но для управления государством. Юношеское ощущение (Кремль — это прошлое) заменилось чувством: история делается тут, за стенами, вот откуда эта строгость и почти абстрактность. Соборы полны черными почти людьми из Средней Азии в меховых шапках, азербайджанцами, грузинами, сибиряками и прочими, и прочими. В алтаре у гробниц патриархов говорят по — татарски, по — польски. Москвичи все обсуждают — кто получил гостевые на хоры, кто в партер, кто разовые. Но это почему‑то не кажется кощунством. Рядом управляют государством — это дело большое, хотя бы и сказывалось в мелочах. Девушки с красными повязками — экскурсоводы. Кто‑то из москвичей уверяет, что одна из них спросила: «Это кто, писатели или кооператоры?» (У этих последних закончился сегодня съезд.) Вряд ли.
Прерываю рассказ о вчерашнем праздничном дне, чтобы перейти к сегодняшним будням. Полевой в своем докладе достаточно безобразно, цитируя все того же Нагишкина, обругал меня[173]. Вечером (Полевой обругал меня утром) услышали мы уже о настоящем несчастье — умер бедный Миша Козаков. Он встретил нас на вокзале, был значителен, мил и не казался более, чем обычно, больным. Вчера утром он пошел за билетом в Союз — за пропуском на заседание в Кремль — и почувствовал себя на улице дурно. И его привезли домой, а сегодня он умер. Продолжаю рассказ о вчерашнем заседании. Нет, сначала о Кремле. В Оружейной палате мы увидели всё — и оружие, и латы, и украшенную бирюзой булаву, и булаву с хрустальным шариком на острие — видимо, чтобы он, сверкая на солнце, был видим войскам, и тут же, в двадцати шагах, севрский сервиз, подаренный Наполеоном после Тильзита. На всех тарелках мифологические сюжеты с игрой, а через двадцать шагов — ризы патриархов в жемчугах и неграненых драгоценных камнях. В них есть свое дикое великолепие. Как изумруд найден, так и вделан, в серебряную или золотую оправу. А через двадцать шагов — эмали и немецкая серебряная посуда. Но поразительнее всего отделанные жемчугами, как дети выкладывают дорожки раковинами, патриаршьи и митрополичьи одежды. Но время приближалось к четырем, и мы пошли во дворец. После несколько бесформенного, но оглушительного великолепия Оружейной палаты лестница кажется строгой. Придя в Георгиевский зал, где был в 1940 году на банкете после Декады ленинградского искусства, я понял, почему напоминал он мне вокзал. Не тем, что как в буфете стояли накрытые столы, а полукруглым потолком. Величину зала скрадывают полукруглые ниши стен.