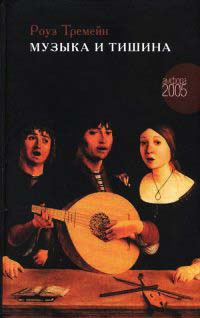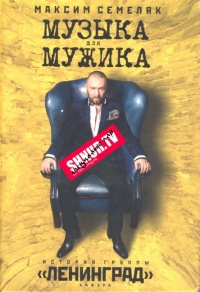Книга Дальше - шум. Слушая XX век - Алекс Росс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Какое-то время современное композиторство было похоже на другие высокотехнологичные секретные проекты “холодной войны”. Композиторы одевались как ученые, носили черные очки с толстыми стеклами и рубашки с коротким рукавом, на пуговицах и с ручками в карманах. Пьер Шеффер, изобретатель конкретной музыки, гордо отметил, что музыка стала командной работой, а не трудом одиночек, и пошел еще дальше, сравнив французских композиторов с атомными физиками, которые вместе работают в лаборатории.
Наступление псевдонаучной ментальности становится очевидным из названий работ, которые исполняли на фестивале в Дармштадте с 1946 года. Первые несколько лет превалировал неоклассический жаргон – сонатина, скерцо, концертино и симфонетта. Затем, после 1949-го, архаические названия исчезли и их заменили фразы с заумным оттенком: “Музыка двух измерений”, “Синтаксис”, Anepigraphe. Существовала мода на абстрактные названия во множественном числе: “Перспективы”, “Структуры”, “Количества”, “Конфигурации”. Публика получила удовольствие от “Спектрограммы”, “Сейсмограммы”, “Аудиограммы” и так далее. Знаковой была карьера Германа Хайсса, который в нацистский период написал “Марш боевых летчиков”. На первом собрании в Дармштадте в 1946 году его творчество было представлено Сонатой для флейты и фортепиано. Десять лет спустя он появился с Expression K.
Девизом Дармштадта, так же как фестивалей Набокова, было слово “свобода”. После векового подчинения церкви, аристократии, буржуазии и массовой публике композиторы могли наконец делать то, что им хочется, – даже выбирать стили, уничтожающие свободу выбора. Штокхаузен, лидер молодых немецких композиторов, выразил это следующим образом: “Великим достижением Шенберга стало требование свободы для композиторов: свободы от доминирующих вкусов общества и СМИ, свободы для развития музыки без вмешательств. Другими словами, он был композитором, который ясно показал обществу, что не позволит обращаться с собой, как обращались с Моцартом, который был изгнан судом зальбцургского архиепископа за то, что вернулся из отпуска в Вену на восемь дней позже”.
Тем не менее не все чувствовали себя свободными. Существовала только свобода идти вперед, но не возвращаться. Молодой немецкий композитор Ханс Вернер Хенце, один из участников Дармштадта с самого начала, был разочарован более или менее официальным запретом тональной музыки и в своих мемуарах с горькой усмешкой писал о модных тенденциях: “Все должно было быть стилизовано и абстрактно: к музыке относятся как к игре в бисер, ископаемому… Аудиторию любителей музыки, потребителей музыки следовало игнорировать. Любая встреча со слушателями, которая не заканчивалась скандалом или катастрофой, оскверняла художника, вызывала недоверие к нам… Как велел Адорно, задачей композитора было сочинение музыки, которая отталкивала, шокировала и служила средством “неумеренной жестокости”.
В 1953 году, чувствуя себя задавленным быстрым маршем немецкой музыки, Хенце сбежал на остров Искья, где под влиянием средиземноморского солнца снова стал использовать тональную музыку, неоклассицизм Стравинского и романтические структуры. Его нервно-экспрессивные оперы понравились обычной публике, но в сообществе новой музыки его считали еретиком. Дирижер Герман Шерхен презрительно отмахнулся от роскошной неоромантической оперы Хенце “Король-олень”: “Но, дорогой мой, теперь мы не пишем арии!” Когда трезвучия “Ноктюрнов и арий” Хенце “осквернили” концертный зал Донауэшингена, Булез и его коллеги покинули помещение, отвернувшись в духе Шенберга.
По общему согласию, Штокхаузен был наследным принцем королевства новой музыки. Не было композитора, настолько безостановочно изобретавшего или использующего новые идеи, более амбициозно выражавшего историческую и духовную миссию авангарда, более искусно создававшего из звуков поразительные представления. В Штокхаузене было что-то от великого колониального искателя приключений, продирающегося через музыкальные джунгли. Он описывал себя как распространителя “сериальной музыки”, “пуантилистской музыки”, “электронной музыки”, “новой ударной музыки”, “новой фортепианной музыки”, “пространственной музыки”, “статистической музыки”, “алеаторической музыки”, “живой электронной музыки”, “нового синтеза музыки и речи”, “музыкального театра”, “ритуальной музыки”, “сценической музыки”, “группового композиторства”, “процессуального композиторства”, “моментального композиторства”, “формульного композиторства”, “многоформульного композиторства”, “универсальной музыки”, “телемузыки”, “духовной музыки”, “интуитивной музыки”, “мантромузыки” и последней – но не менее важной – “космической музыки”.
Яркий, говорливый, светловолосый, общительный Штокхаузен излучал то, что впоследствии стали называть положительной энергией, хотя авторитарные замашки иногда превращали его в невыносимого коллегу. В поздние годы у него появилась тяга к мистике, выяснилось, что у него было много прошлых жизней, и он настаивал на своем инопланетном происхождении.
На самом деле Штокхаузен родился в деревне неподалеку от Кельна в 1928 году. Он получил обычное музыкальное образование в Высшей школе музыки, а затем в Кельнском университете. Пока вокруг бушевала Вторая мировая война, он обратил внимание на новую музыку; как многие другие молодые немцы, он слушал американские военные радиопередачи, и ритмы ансамбля Гленна Миллера скрасили скуку дисциплины военного времени. Робин Макони, самый дотошный из хроникеров Штокхаузена, сообщает, что особенный интерес для молодого композитора представлял джаз с его эффектом плавающих, независимых ритмомелодических соотношений.
Прибыв в 1951 году в Дармштадт, Штокхаузен открыл для себя “Лады длительностей и интенсивностей” Мессиана и сразу проникся идеей создания абсолютно организованной сериалистской музыки. Его первая зрелая пьеса Kreuzspiel (“Перекрестная”), отличается псевдоджазовой безмятежностью и псевдочувственной притягательностью, открываясь звучанием конгов и тихих тамтамов в сочетании с трехнотными фортепианными созвучиями, разбросанными по разными регистрам. Первый сборник Klavierstücke (“Фортепианные пьесы”) Штокхаузена по контрасту является ярким примером эстетики распыления: звуки бьют рикошетом сверху донизу на фортепиано, как будто инструмент – это машина для пейнтбола.
Новое искусство электронной музыки стало для Штокхаузена откровением с самого начала. Его гуру были Вернер Мейер-Эпплер, экспериментальный физик, специализировавшийся на изучении синтезированных звуков и речи, и композитор-теоретик Герберт Аймерт, возглавлявший новую электронную студию в Кельне. Их видение музыкального будущего отличалось от представлений Пьера Анри и Пьера Шеффера в Париже, и нет ничего удивительного в том, что знакомый франко-немецкий культурный раскол определил и разницу двух электронных школ. Аймерт отрицал французскую конкретную музыку как паразитический дилетантизм, поверхностную перестановку знакомых акустических звуков. Вместо этого, сказал он, электронную музыку следует целиком создавать в студии, добиваясь таким образом “чистого” существования за пределами известного и обыденного. В 1951–1952 годах Аймерт и Роберт Бейер создали Sound in Unlimited Space (“Звук в неограниченном пространстве”) – более или менее первое произведение синтезированной музыки, клокочущий, стонущий синусоидальный набросок.