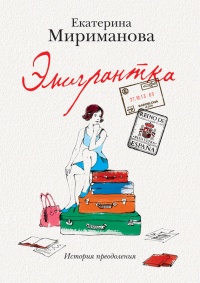Книга И жить еще надежде... - Александр Городницкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И Глеб Семенов как мог воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, воспитанный в старой интеллигентской семье (приемная мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а приемный отец — известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов, авторов, которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Помню, как-то году в 50-м он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:
«Чьи это стихи?» — спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только несколько лет назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автором этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший тогда в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем, — ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Именно он, помнится, дал мне впервые прочитать стихи прекрасного поэта Николая Тарусского, стихи Николая Заболоцкого и многих других поэтов, тогда запрещенных или полузапрещенных.
Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания Мировой поэзии — от Тредиаковского до обериутов, от терцин «Божественной комедии» и песен вагантов до мужественной «Мэри Глостер» и «Баллады о трех котиколовах». Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.
После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до той поры бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне собственных злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и смысла их единственной гармонии, и не могли уже жить, как прежде.
Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные «воспитанием под барабан» в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести «Попытка к бегству» на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим, и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: «Хотят странного». Стараясь научить нас «отличать плохие стихи от хороших», Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание — «хотеть странного». Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного «стремление ко лжи и к искусству». Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно, и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И в этом его огромная заслуга. Не все, безусловно, стали литераторами — многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных «ценностей»…
Именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском Горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники «горняцкого» объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры им. Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из «глеб-гвардии семеновского полка» (так мы себя в те поры величали) вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них — писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепакова, Нина Королева и многие другие.
С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то, читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.
Нам всем, дворцовым студийцам, было от 15 до 17 лет, и Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов «Свет в окнах», вышедшая в 1948 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. В годы войны его не взяли в армию из-за слабых легких, и это тоже мучило его, что нашло отражение в его стихах. Существовал он более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия — в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть…
Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили «студия») были свои лидеры — первые поэты, писатели и критики. Старшую группу одно время посещал Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский институт. В этой же группе занимались Борис Никольский, Владимир Торопыгин (главный редактор «Авроры», безвременно умерший от рака), Игорь Масленников, ушедший потом работать на телевидение. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся: