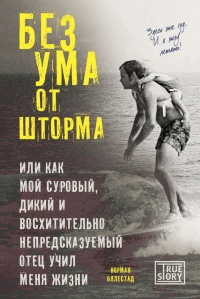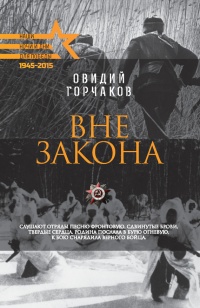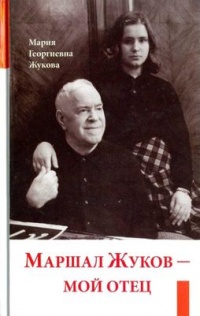Книга Предрассветная лихорадка - Петер Гардош
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Единственным и, надо сказать, довольно забавным пристрастием Эмиля Кронхейма была… селедка. Перед сельдью в сладком маринаде он устоять не мог. Вот и теперь, сидя с газетой в купе, он время от времени брал с пергамента очередной аппетитный ломтик и отправлял себе в рот. За окном проносились припорошенные первым снегом деревья.
Прибыв в Экшё, он спустился по лесенке из вагона. Здесь шел дождь. Раввин поспешил по мокрой платформе к выходу.
В госпитале, насколько он знал, на излечении находились лишь три его соплеменницы, от одной из которых несколько дней назад он получил письмо. Но ведь одна душа – тоже живая душа. И Кронхейм, не раздумывая, отправился в утомительное путешествие.
И вот он сидел теперь в той же слепой каморке в цокольном этаже, где несколько дней назад вела прием фру Анна-Мария Арвидссон. Раввин в поношенной серой паре сосредоточил свой взгляд на мухе, плясавшей между точилкой и остро заточенными карандашами.
Послышался стук, и в дверь просунулась голова Юдит Гольд.
– Разрешите?
Раввин улыбнулся:
– Как раз такой я вас и представлял. Вы знаете, дорогая…
– Юдит Гольд.
– …вы знаете, дорогая Юдит, по вашему почерку я мысленно нарисовал ваш портрет. И можете похлопать меня по плечу: я попал в десятку. Кстати, миром в значительной мере управляют такого рода предчувствия. Наполеон перед битвой при Ватерлоо… О, какая вы бледная! Может, воды?
Графин с водой стоял на столе. Раввин наполнил стакан. Юдит Гольд с жадностью выпила воду и села.
– Мне стыдно, – пролепетала она.
– Мне тоже. Как всем из нас. Потому что есть за что. Вот, к примеру, вы, Юдит, – чего вы стыдитесь?
– Того, что я написала вам это письмо. И что вынуждена доносить…
– Так не доносите! И забудьте про это!
– Я не могу.
– Как не можете! Пожмите плечами да и наплюйте на все, что хотели мне рассказать! И пусть у вас больше голова не болит. Забудьте. Поговорим лучше о другом. Вот, скажем, о мухах. Как вы относитесь к мухам, Юдит?
Эмиль Кронхейм указал на жужжащую над столом муху.
– С отвращением.
– А вот этого лучше остерегаться. Отвращение легко переходит в ненависть. А за ненавистью последует агрессия. Потом возникнет идеология. И кончится дело тем, что на протяжении всей жизни вы будете преследовать мух.
Юдит Гольд завороженно смотрела на муху, которая в этот момент села на край стакана. Она нервно сглотнула:
– У меня есть подруга.
Юдит Гольд замолчала. Она ждала вопроса или какого-то жеста, но Кронхейма, казалось, интересовала только эта нахалка муха, сумасбродно разгуливающая по столу.
Так что пришлось ей начать самой:
– Речь идет о моей подруге Лили. Ей восемнадцать. Она еще очень неопытная и наивная.
Раввин сомкнул глаза. Слушал ли он вообще?
– Ей вскружил голову один мужчина… молодой человек с Готланда… Точнее, теперь он уже в Авесте. Смотреть на это нет сил! Лили потеряла рассудок! Наблюдать за этим со стороны просто невыносимо!
Раввин, который только что балагурил, перескакивая с пятого на десятое, сидел теперь, смежив глаза. Неужели уснул?
Юдит Гольд заплакала.
– Это моя подруга, самая лучшая. Я души в ней не чаю. Когда ее привезли, она была кожа да кости! Такая потерянная! Одинокая! А потом начала переписываться с этим вертопрахом. Да он негодяй! Обещает ей золотые горы! Дошло уже до того, что он собирается к ней приехать, прямо сюда, в госпиталь! Простите, что я говорю так путано. Но я знаю одно – что Лили еще просто ребенок.
Юдит Гольд чувствовала, что потеряла нить. Ей хотелось все объяснить от начала и до конца. Объяснить, чего она опасается и что для этих страхов есть все основания. Но раввин не только не помогал ей, но, напротив, вводил ее в замешательство. Он, казалось, не слушал ее. Сидел, вытянувшись, закрыв глаза.
Минута прошла в молчании.
Неожиданно реб Кронхейм запустил руку в лохматую шевелюру. Стало ясно, что он вовсе не дремал.
Юдит Гольд всхлипывала и шмыгала носом.
– Я прошла через столько ужасов. Столько раз сдавалась. И вот выжила. Уцелела. А Лили – да она же еще девчонка!
Эмиль Кронхейм сунул руку в карман.
– На подобные случаи я держу при себе чистый носовой платок. Пожалуйста.
* * *
Как раз в эти дни мой отец придумал, как ему обмануть судьбу. Относительно своей внешности иллюзий у него не было. Даже несмотря на то, что весил он уже целых пятьдесят кило, а с лица стали исчезать отвратительные нарывы, он был полон всяческих комплексов.
Поначалу просьба отца привела Линдхольма в изумление, но поскольку речь шла не о поездке, он решил: почему не порадовать бедолагу. И, подойдя к шкафу, достал из незастекленного нижнего отделения небольшой фотоаппарат. Потом отыскал в ящике письменного стола фотопленку на двенадцать кадров и вручил все это моему отцу, который с сияющей физиономией стоял посреди кабинета.
* * *
Бараки были отделены друг от друга большими участками с вековыми соснами, подпиравшими кронами хмурое небо. На один из таких участков и отправились Миклош, Гарри и Тибор Хирш. Там отец торжественно протянул Тибору фотоаппарат. Хирш был старшим среди обитателей их барака, ему исполнилось уже пятьдесят два. Волосы на его голове так и не отросли, и кожа пестрела темно-красными крапинами и пятнами.
– Ты был фотографом, так что я в тебя верю. – Мой отец заглянул в глаза Хиршу. – Для меня это вопрос жизни и смерти.
Тот долго изучал фотокамеру “Экзакта”.
– Знакомая марка, – наконец кивнул он. – Идеальный получится снимок, ручаюсь…
– Нет, нет, – перебил его мой отец, – только не идеальный.
– То есть как?!
– Сделай смазанный. Так мне нужно.
Хирш уставился на него. А мой отец добавил:
– Потому я и попросил тебя. Ты же профессионал…
Хиршу вспомнилось не столь уж далекое прошлое.
– В определенном смысле – да. Я ведь радиомеханик и ассистент фотографа. Бывший. Так чего ты хочешь?
Мой отец указал на Гарри:
– На снимке должны быть двое. Гарри и я. Гарри пусть будет четким, а я размытым. Можешь так сделать?
– Что за чушь! – возмутился Хирш. – Зачем тебе это?
– Не имеет значения! Скажи – сможешь или не сможешь?!
Радиомеханик и ассистент фотографа Тибор Хирш колебался. Но поскольку отец глядел на него умоляющим взглядом, да еще потому, что он был настоящим товарищем, Хирш отбросил профессиональную гордость.
И минут через пять придумал, как сделать моего отца почти неузнаваемым на фотографии. Гарри он поставил на передний план. В полупрофиль, под самым выгодным углом. К счастью, из‑за туч временами выглядывало блеклое солнце. Хирш встал против света, что обещало придать снимку художественную выразительность. Тем временем мой отец должен был бегать туда-сюда в нескольких метрах позади Гарри, пока Тибор Хирш, щелкая затвором, снимал эту постановку.