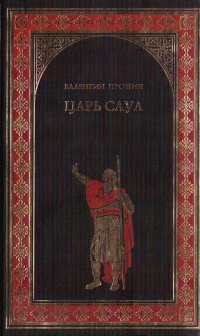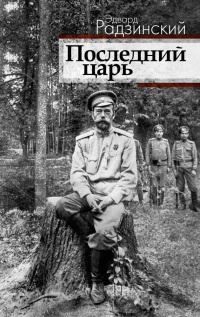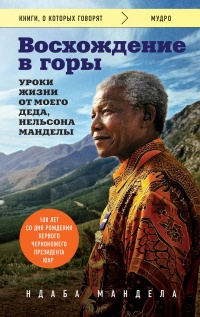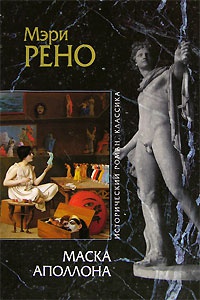Книга Тесей. Царь должен умереть. Бык из моря - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я впал в ярость и, уцепившись за камень, принялся гнуть его скорее как зверь, а не человек, ощущая, как трещат мои сухожилия и кровоточат пальцы. Я забыл даже про мать, пока не услышал топот бегущих ног, шорох юбки и голос, приказывавший мне:
– Остановись!
Я обернул к ней покрытое потом лицо. Во мне бушевал такой гнев, что я закричал на нее, словно на простую крестьянку:
– Я же запретил тебе подходить!
– Неужели ты обезумел, Тесей? – спросила она. – Ты себя убьешь.
– Почему бы и нет? – отвечал я.
– Я знала, что из этого выйдет! – вскрикнула она и приложила руку ко лбу. Я молчал, потому что почти возненавидел ее. Мать проговорила: – Ему следовало довериться мне. Да, пусть я и была тогда очень молода.
Потом она увидела, что я остановился и смотрю на нее, и закрыла рот двумя пальцами. Я повернулся, чтобы уйти, и вскрикнул от боли – не заметив того, я надорвал мышцу спины. Мать приблизилась и ласково ощупала меня, но я глядел в сторону.
– Тесей, сын мой, – проговорила она с мягкостью, едва не победившей меня. Мне пришлось стиснуть зубы. – Ничто не запрещает мне сказать тебе это: не я заставляю тебя страдать. И по-моему, я имею право судить об этом. – Она умолкла, глядя через прореху в дубовой листве на синее море. А потом произнесла: – Береговые люди были невежественны; они думали, что вечноживущий Зевс умирает каждый год. Но по крайней мере, они понимали, что некоторые дела следует предоставить женщинам. – Мать умолкла на миг и заметила, что я жду лишь ее ухода. И она отправилась прочь. А я повалился на землю.
Черная почва, пропитанная весенними запахами и усыпанная веками падавшими на землю листьями, поглотила мои слезы. В дубраве Зевса не подобает восставать против богов. Только что я сердился на Посейдона, ради каприза сломавшего, словно палку, мою гордость и швырнувшего ее оземь. Однако спустя некоторое время я осознал, что бог не причинил мне вреда, а скорее облагодетельствовал. И обижаться на него было бы высокомерием, недостойным благородного мужа, которого не должны смущать ни жестокость врага, ни доброта друга. Поэтому я, хромая, отправился домой – прямиком в горячую ванну, о которой успела позаботиться моя мать. Потом она растерла меня маслом, благовонными травами, но мы с ней не разговаривали.
Две недели я не мог бороться и сказал юношам, что упал со скалы. В прочих же отношениях жизнь моя шла как и прежде, только вот света больше не было. Те, с кем случалось подобное, поймут меня; смею сказать, таких будет немного, ибо в подобном состоянии муж легко умирает.
Ну а когда человек очутился во тьме, есть один только бог, которому он может молиться.
Раньше я никогда не выделял среди богов Аполлона. Конечно, я всегда молился ему, прежде чем натянуть тетиву на луке или струну на лире, а когда охотился, не скаредничал за счет его доли. Аполлон то и дело даровал мне целые сумы добычи. Бог этот глубок и знает все мистерии, даже женские, но он истинный и благородный эллин. И лучше помнить об этом, дабы не обидеть его. Аполлон не любит, когда в присутствии его проливаются слезы, – так и дождь едва ли приятен солнцу. Тем не менее он понимает горе: принеси ему свою скорбь в песне, и он заберет ее.
В небольшой лавровой рощице, неподалеку от дворца, стоял его алтарь, и я каждый день приносил Аполлону дары и играл перед ним. Вечерами в зале я пел только о войне; но здесь, оставшись один перед богом, я пел о печали, о юных девах, принесенных в жертву перед свадьбой, о владычицах сожженных городов, оплакивающих своих павших супругов, пел старинные песни берегового народа, сложенные о юных героях, которые, даже зная о назначенной за это смерти, целый год любят богиню.
Но нельзя же все время петь. И тогда печаль вновь наваливалась на меня, словно зимнее облако, обремененное снегом. В те дни я не мог выносить людей и, взяв собаку и лук, уходил в горы.
Как-то летом, целясь в мелкую дичь и всякий раз подбирая свои стрелы, я зашел очень далеко – в тот день ветер обманывал меня и мне удалось добыть лишь одного зайца. На закате я был еще на вершине и, поглядев вниз, увидел, как тень горы тянется к острову. Над склонами предгорий, укрытыми сумраком и деревьями, поднимался голубой дымок Трезена. Сейчас в домах наполняют светильники. Но наверху птицы еще исполняли негромкую вечернюю трель, и глубокий свет вычерчивал края каждой травинки.
Я поднялся на голую округлую вершину хребта, куда утром падают первые солнечные лучи; там и устроен алтарь Аполлона. По обе руки виднелось море; на западе – горы, высящиеся над Микенами. Дом жрецов, как и небольшое святилище, где хранятся священные предметы, был сложен из камня, потому что ветер на вершине силен. Под ногой пружинили вереск и чабрец, а за алтарем было одно лишь небо.
Мрачное настроение не отпускало меня. Я решил не ужинать в зале – чтобы не поссориться с кем-нибудь и не завести врагов. Возле гавани жила девица, которая могла бы вытерпеть меня, к чему обязывал ее род занятий.
С алтаря поднимался последний сизый дымок, и я остановился, чтобы приветствовать бога. Подстреленный заяц все еще оставался в моей руке. Я решил – не буду разрезать его. Не стоит скупиться перед Аполлоном. Пусть бог получит всю добычу, ведь он достаточно часто посылал мне дичь ни за что.
Алтарь чернел на фоне светлого заката, отливавшего желтой примулой. Вечернее жертвоприношение догорало на нем, и запах опрысканного вином сожженного мяса висел в воздухе. В доме жрецов было тихо – ни огонька, ни дымка. Они, быть может, отправились за дровами или водой. Вокруг – ни одного человека, только тусклый свет и великая синева во все стороны – горы, море и острова. Пустота эта встревожила даже моего пса: шерсть на его загривке встала дыбом, и он заскулил. Вечерний ветерок тронул тетиву моего лука, и она отвечала ему тонким и странным гудением. И вдруг я почувствовал себя таким одиноким, словно муравей, тонущий в реке. Я бы отдал все что угодно, лишь бы увидеть какую-нибудь старуху с вязанкой хвороста, просто что-нибудь одушевленное. Но во всем этом просторе не было никакого движения, лишь лук мой пел комариным голосом.
Волосы зашевелились у меня на затылке, дыхание остановилось. И, словно затравленный зверь, я бросился вниз по склону, продираясь сквозь лес, пока чаща не преградила мне путь. Наконец я остановился – волосы дыбом, как у пса, – и услыхал голос, говорящий мне прямо на ухо:
– Не опаздывай сегодня, иначе не услышишь кифары.
Я знал этот голос – он принадлежал моей матери. Знал и слова: она произнесла их сегодня утром, провожая меня на охоту. Я ответил ей тогда не задумываясь, обратившись в мыслях к собственным бедам, и сразу забыл обо всем. Теперь память возвратилась далеким отзвуком.
Я вернулся к святилищу и оставил зайца на столе приношений, чтобы его могли отыскать жрецы. Мрак уныния рассеялся, и мне захотелось поесть, выпить вина и оказаться среди людей.
Невзирая на спешку, я порядком запоздал; дед, поглядев в мою сторону, поднял брови, и я заметил, что кифаред[28]уже приступил к еде. Я отправился в дальний конец стола, где он сидел среди знати, и мне позволили сесть возле него.