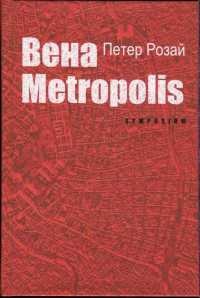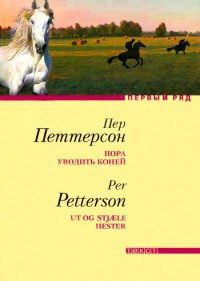Книга Этой ночью я ее видел - Драго Янчар
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вероника смотрела в потолок.
Жуть какая, заметила она спустя некоторое время. А потом снова расплакалась. Бедный мой, бедный мой, повторяла она. Что тебе пришлось пережить, и потом ты поступаешь в эту школу для офицеров. Может быть, именно из-за этого. Нет, не из-за этого, ничего подобного я никому не мог бы сделать. У нас любой парень хочет поступать в военное училище, это никак не связано с тем случаем. Возможно, как раз из-за этого, повторяла она, обещай мне, промолвила она, что ты никогда никому не сделаешь ничего ужасного. Этого я не мог бы пообещать, я же сказал, что нет, представить себе не могу, чтобы я что-нибудь в этом роде учинил. Кроме одного человека, Топаловича, лица которого я никогда не видел и о котором больше никогда не слышал, ему бы я устроил.
И устраивал. Да еще чего похуже, до того, как оказаться в Пальманове. Не то что людей, коня своего застрелил, Вранца, которого она так любила. Но на то она и была война, война, война, с которой я вернулся с одним только ранением, без одного зуба, мне странным образом повезло.
Еще раньше, до того, как мы прибыли в Пальманову, всю зиму и весну сорок пятого мы стояли тогда на словенских высокогорных плато против девятого корпуса Тито, то мы их, то они нас. Мне везло все эти годы. А это ерунда, небольшое пустяковое ранение. Боже ж ты мой, какие ранения мне довелось видеть. Мертвецы, позеленевшие покойники из боснийских деревень, хоронить которых ни у кого руки не доходили. Да, и павшие лошади, дорогая моя Вероника, которых мы гнали в атаку под прицельным огнем партизанских минометов, не под бомбы, Вероника, под минометные снаряды, разрывавшие в клочья брюхо лошади, отрывая ноги наездникам. Тем самым, которых я научил ездить верхом, снимать винтовку на всем скаку, ретироваться, стрелять, шашку наголо, какие мы были безголовые, прямо на пулеметные гнезда неслись на скаку и пели: вперед, братушки четники, бой страшный впереди, нонсенс еще хорошо сказано, мы все обезумели. Ожесточились. Они и мы. У раненых и пленных не было шансов выжить. Ни у наших, ни у тех. Убьем. Прикончим всех, кто не с нами, мы и такое пели. Это непередаваемо по-словенски, по-словенски говорят: зарезал его как свинью. Так сказал один пленный партизан, когда мы спросили, что случилось с капитаном Вукмирицей, попавшим несколько дней назад им в руки. С Вукмирицей? переспросил он. С этим четником? Он смотрел на нас испуганно, салаженок еще был, крестьянский паренек, и он знал, что в живых ему не остаться, из наших рук никому не удавалось уйти живым, зарезал его как свинью, только это и сказал, прежде чем такой же юный шумадиец из моего отряда не прошил ему живот автоматной очередью.
На все это и еще на многое другое насмотрелись мои глаза, разглядывающие сейчас в зеркале небритое лицо и поседевшие волосы на голове. Посеребренные виски — это из-за войны. Возможно, они появились в тот день, когда я должен был пристрелить Вранца. У него были сломаны обе передние ноги, он смотрел на меня как человек, ты ведь знаешь, как лошади иногда могут смотреть, будто все понимают. Я знаю доподлинно, где это случилось. Про многих товарищей я не мог бы вспомнить, где они пали и умерли, а про Вранца я бы в точности показал двор, где оборвалась его военная стезя и годы жизни со мной. В деревне Удбина в Лике, может, и впрямь, нам доведется вернуться, тогда я бы отправился туда, чтобы вспомнить еще раз, как все это было. Сейчас я пытаюсь забыться, хотя каждую ночь у меня стучат в голове барабанным боем выстрелы, женский плач и крик детей, стук лошадиных копыт, горящих балок, падающих на дома заодно с крышей. Вранца же я не забуду, уверен, что и ты частенько о нем вспоминаешь, Вероника. Я нашел другого гнедого коня, его я тоже назвал Вранцем, там, за оградой он носится на свободе вместе с другими офицерскими лошадьми. Ты ведь этого хотела, да? Чтобы кони не стояли в конюшнях, а носились на воле. Молодой и шустрый, но пугливый, ему пришлось пережить больше, нежели другим за всю жизнь, хоть они и таскают за собой кесаревы кареты или выступают за деньги на потеху публике, которая толпится вокруг манежа. Вчера ночью я слышал, как он заржал, я подумал, что это он тебя узнал, ну куда ему узнать тебя? Тот, кто мог тебя узнать, вздрогнул и остался лежать на деревенском дворе в Лике. Я так подумал, потому что сам по-прежнему часто думаю о тебе, Вероника. С тех пор, как ты ушла, не прошло и дня, чтобы я не вспомнил о тебе, если не чаще, ночью, спустившейся на боснийские горы или в крестьянской избе в Лике, на холодной Соче или в лагере для военнопленных здесь в Пальманове. Лошадь знает, о чем думает ее седок, так часто она становится его вторым я. Или же он очнулся, потому что проснулся я, увидев тебя как живую, как живую, идущую между нарами офицерского барака прямо ко мне.
Долго мы не пробыли во Вране, хотя ей должно было показаться, что это длилось целую вечность. Весной тридцать восьмого меня перевели в Марибор. Я чувствовал, что в этот приказ вмешались нежные руки денди в белом костюме. Руки, которые отсчитывают деньги и в конверте протягивают через стол в кафе «Унион» или в ресторане «Под каштанами» майору Иличу. А может, после той злосчастной пощечины и Вероника наладила отношения со своим мужем. Не знаю, что случилось. Внезапное новое назначение в любом случае было странным. Я больше не числился благонадежным офицером, которого из штрафного Вранья переводили на австрийскую границу, хотя Дравская дивизия все больше нуждалась в пополнении.
Что бы за этим ни стояло, а в конце зимы тридцать восьмого мы оказались в Мариборе, я был расквартирован в городе и получил свой эскадрон в кавалерийской части. Снег уже подтаивал, чувствовалось дыхание весны, и Вероника снова ожила. Она была среди своих, ходила на прогулки в прекрасный городской парк. В клубе верховой езды в Камнице ездила верхом в обществе мариборских дам. Она рассказывала о Вране и о протяжных, задушевных песнях, которые там узнала, и о реке Мораве, о вранских банях, о цыганских трубачах и свадьбах, она развлекала собравшихся за чаем рассказами об обычаях православных, о том, что они приносят на могилы своих близких их любимую еду. А по ночам приходят цыгане и устраивают там пиршество. Для нее это было забавным и увлекательным приключением, к тому же моя стычка с прапорщиком преподносилась как рыцарский поступок, мой Стева, говорила она, рыцарь и кавалер. Про ту пощечину она не распространялась. Смех собравшихся вызывала ее присказка: конница плевать хотела на пехоту. Однажды я услышал из кухни, как одной даме, которая зашла в гости, она рассказывает, как была поражена, когда, оказавшись как-то в селении цыган, увидела, как там режут баранов. Я прислушался. Это было в тот раз, когда мы так сильно повздорили. Прямо у дороги, рассказывала она, просто так, кровь из перерезанного горла содрогавшихся в конвульсиях животных стекала в канаву возле дома. Я и сейчас, если закрою глаза, вижу эту жуткую картину. Мне же ни тогда во Вране, ни позднее, она никогда не рассказывала, что случилось в тот день, когда я вернулся с гауптвахты и ударил ее из-за того, что она опять ходила в цыганский табор. По всей видимости, я этого не стоил. Меня следовало жалеть из-за трудного детства, я был рыцарь, потому что вступился за ее честь, сопровождал ее на мариборские танцульки под названием «Адриатическая ночь», и на этом все, что-то между нами в этом несчастном Вране надломилось. Она была там в клетке, я это понимал, что она так себя чувствовала, может, с кем-то из своих приятельниц она и делилась этим. Как неизбежно надломилось бы в любом другом месте. В Мариборе же все только еще больше катилось по наклонной с бешеной скоростью. Кроме того, мы все меньше времени проводили вместе. Маневры в Дравской дивизии случались все чаще, в нескольких километрах оттуда была граница, а за ней бурлящая Австрия, по которой уже открыто маршировали местные нацисты, надвигались великие события, это чувствовалось повсюду. Наш кавалерийский эскадрон получил самоходки, небольшие боевые машины марки «Шкода», которые постепенно должны были вытеснить кавалерию. Мне это казалось несусветной глупостью, но ничего иного не оставалось, как предаваться инструктажу и ездить на этой неуклюжей, громыхающей и извергающей зловоние машине, вместо того, чтобы ехать верхом на коне. Вранац, который все больше становился моим единственным утешением, одиноко простаивал на конюшне.