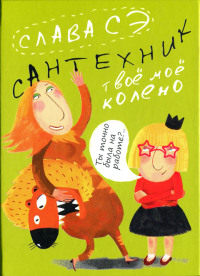Книга Спортивный журналист - Ричард Форд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Размышляя об этом сейчас, я не могу с уверенностью сказать, почему мы просто не перебрались в квартиру побольше. Если спросить об этом Экс, она ответит, что переезд не был ее идеей. Что-то крывшееся во мне вдруг возжаждало его. В то время я полагал, что за всякое дело следует браться решительно и расторопно. И тем утром проснулся, чувствуя, что мой нью-йоркский «паспорт» аннулирован, а сам я обладаю неоспоримым знанием жизни; чувствуя, что нам следует быстро покинуть город и поселиться там, где и я никого не знаю и меня никто не знает, где я смогу довести до совершенства столь важную для писателя растворенность в гуще людской, где работа моя процветет в полной мере.
Экс, услышав об этом, высказалась в пользу стоящего в верховьях реки Хусатоник городка Лайм-Рок, штат Коннектикут, мы с ней не один раз проезжали через него. Однако я ничего не страшился так, как этой земли нерешительных иуд. Ее мелкие горы, ее печальные анклавы, обитатели коих носят свитера из шетландской шерсти и ездят в пикапах «вольво», говорили мне лишь об отчаянии и обмане, сарказме и самонадеянной бесцеремонности – разве подобное место годится для настоящего писателя? – нет, только для второсортных редакторов и литературных агентов, которые обслуживают сочинителей учебников, – такого я держался мнения.
За неимением идеи получше я отдал мой голос за Нью-Джерси: простой, непритязательный, непретенциозный ландшафт, думал я, и думал верно. И за Хаддам с его холмистой, тенистой семинарской миловидностью (я видел в «Таймсе» рекламу, именовавшую городок еще не открытым Вудстоком, штат Вермонт), там я смогу вложить мои фильмовые деньги в основательный дом (я не ошибся), там найду смешанное общество людей самых разных (нашел), там смогу жить в благой надежде и заниматься серьезным делом (вот тут я промахнулся, но откуда ж мне было об этом знать?).
Отстаивать Коннектикут Экс нужным не сочла, и весной 1970-го мы купили дом, в котором я теперь живу один. Экс ушла с работы, чтобы подготовиться к рождению Ральфа. Я с обновленным энтузиазмом перебрался в «кабинет» на третьем этаже – ныне он сдается мистеру Бособоло – и приступил к стараниям обзавестись более основательными писательскими привычками и положительным отношением к моему роману, которому покорно отдал все лето. За несколько месяцев мы свели знакомство с компанией молодых людей (иные из них были писателями и редакторами), начали посещать коктейли, совершать прогулки по берегам протекающего неподалеку Делавэра, ездить в Готэм на литературные мероприятия, бывать в театрах округа Бакс, выезжать на природу, проводить вечера дома за чтением и обзаводиться репутацией неординарной пары (мне было всего двадцать пять лет) – вообще чувствовать, что живем мы хорошо и выбор сделали правильный. Я выступил в библиотеке Хаддама, а затем в «Ротари-клубе» соседнего городка с лекцией «Становление писателя»; напечатал в местной газете статью «Почему я живу там, где живу», в которой рассуждал о необходимости подыскивать для работы место как можно более «нейтральное». Трудился над сценарием для продюсера, купившего права на мою книгу, и напечатал в больших журналах несколько статей (одна рассказывала о знаменитом центровом прежней Южно-атлантической лиги, который стал впоследствии нефтяным бароном, просидел какое-то время в тюрьме за финансовые махинации, сменил несколько жен, досрочно освободился) под честное слово, вернулся в свой скучный дом на западе Техаса, построил лечебный плавательный бассейн для детей с поврежденным мозгом и даже привозил в страну на лечение мексиканцев. Год худо-бедно, а прошел. А затем я вдруг перестал писать.
Почему – точно сказать не могу. Какое-то время я каждый день поднимался в восемь утра в мой кабинет, к ленчу спускался, потом устраивался где-нибудь в доме и читал ученые труды о Марокко, «разрешал проблемы структуры», рисовал схемы и конспективно записывал сюжетные линии и прошлое персонажей. На деле же я просто иссяк. Иногда я снова поднимался в кабинет, садился за стол и безуспешно пытался понять, зачем я сюда заявился, о чем собираюсь написать, – я просто-напросто забыл все это. Поймав себя на размышлениях о том, что хорошо бы пройтись под парусом по Верхнему озеру (чего я так никогда и не сделал), я спускался и ложился вздремнуть. И если мне требовалось доказательство того, что я оскудел, так вот оно: когда главный редактор журнала, в котором я теперь работаю, позвонил мне и спросил, не заинтересует ли меня штатная должность спортивного обозревателя, – их журнал, сказал главный редактор, нутром чует хороший слог, а именно таким написана моя статья о техасском миллионере-заключенном-добром-самаритянине, – предложение его меня не просто заинтересовало, но привело в восторг. Он сказал, что увидел в моей статье что-то неоднозначное, но хорошо продуманное, – в частности, его порадовало, что я не пытаюсь подать прежнего центрового ни как негодяя, ни как героя, – ему представляется, что я обладаю как раз таким темпераментом и вниманием к деталям, какие потребны для авторов его журнала, хоть я и могу, конечно, сказал он, счесть его звонок дурацкой шуткой. На следующее утро я отправился в Нью-Йорк и обстоятельно побеседовал в старом, обставленном дубовой мебелью офисе, который журнал занимал тогда на углу Мэдисон и 45-й, со звонившим мне человеком – толстым голубоглазым чикагцем по имени Арт Фокс – и его молодым помощником. Арт Фокс сказал, что если ты вырос в этой стране, то, скорее всего, уже знаешь достаточно, чтобы стать приличным спортивным журналистом. Прежде всего, сказал он, от вас требуется готовность снова и снова наблюдать за чем-то почти одинаковым, а потом за два дня написать об увиденном, плюс понимание: вы пишете о людях, которым нравится делать то, что они делают, иначе они этого делать не стали бы, что, собственно, и оправдывает существование как спортивной журналистики, так и самого спорта, штуки, вообще-то говоря, бессмысленной. После ленча он отвел меня в большое помещение, разделенное на старомодные кабинки, в которых стояли деревянные столы с пишущими машинками, и познакомил с сотрудниками журнала. Я пожимал руки этим людям, выслушивал рассказы о том, что у них на уме (о моей книге ни один не упомянул), и в три часа дня, счастливый, поехал домой. А вечером отвел Экс в дорогой ресторан («Золотой фазан», так он называется) на ужин с шампанским, потом потащил на романтическую прогулку при луне – по береговой тропинке, приведшей нас в места, нам не знакомые, – и излил ей душу, поведав о том, каких практических результатов мы можем, как мне представлялось, ожидать от такой работы (я полагал, что очень немалых), она же, выслушав меня, просто сказала, что звучит это все, на ее взгляд, заманчиво. Честно говоря, я помню тот день как самый счастливый во всей моей жизни.
Дальше все было просто, пока несколько лет спустя не заболел синдромом Рея и не умер мой сын Ральф, я не впал в дремотность, причиной которой могла быть его смерть, а могло и что-то еще и которая ничем мне не помогла, а наша с Экс жизнь не разбилась вдребезги после того, как мы посмотрели «Тридцать девять ступеней» и она обратила свой сундук для приданого в дым, улетевший в каминную трубу.
Не знаю, впрочем, как я уже пытался сказать, что все это доказывает. У каждого из нас есть та или иная история. Одни попробовали сделать карьеру и преуспели, другие провалились. Но что-то же приводит нас туда, где мы теперь находимся, и ничья история не смогла бы привести в то же место какого-нибудь другого Тома, Дика или Гарри. Что и ограничивает для меня полезность этих историй. Любая история, думаю я, – в той мере, в какой она недопонята, или недорассказана, или попросту сфабрикована, – может показаться таинственной. А я всегда живо интересовался тайнами жизни – запас их неизменно скудноват, и на дремотность, мной только что упомянутую, они, я бы сказал, ничуть не похожи. Дремотность – это, помимо прочего, состояние приторможенного узнавания, реакция на чрезмерное обилие бесполезных и сложных фактов. Ее симптомом может быть долговременный интерес к погоде, или устойчивое ощущение собственной устремленности ввысь, или обыкновение вперяться в кого-нибудь взглядом, осознавая это лишь задним числом, сквозь дымку времени. Если дремотность нападает на вас в молодости, это не так уж и плохо, а в каком-то смысле нормально и даже приятно.