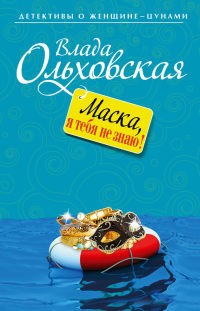Книга Серые души - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эдмон Гашантар носил баскский берет, отличался большими ногами и прискорбной склонностью к сложносоставным аперитивам, чей растительный запах был сродни аптечному. Глядя на небо, он часто качал головой и вдруг становился задумчивым, когда чистую небесную синеву пачкали белые барашки облаков. «Сволочи…» – говорил он тогда, но я никогда толком не понимал, относилось это к облакам или к каким-то другим фигурам, далеким и неясным, плывущим в небе для него одного. Вот и все, что мне приходит на ум, когда я о нем вспоминаю. Память – любопытная штука: удерживает то, что и гроша ломаного не стоит. А что до остального, то все попадает в общую могилу. Сегодня Гашантар наверняка уже умер. Ему было бы сто пять лет. Его второе имя было Мари. Просто еще одна деталь. На этот раз я останавливаюсь.
Когда я говорю, что останавливаюсь, значит, должен бы сделать это по-настоящему. К чему вся эта писанина, эти строчки, которые жмутся друг к другу, как гуси зимой, эти слова, которые я нанизываю друг на друга, не видя в них ничего? Дни проходят, и я снова иду к своему столу. Не могу сказать, что это мне нравится, но не могу сказать и обратное.
Вчера Берта, которая приходит три раза в неделю, чтобы смахнуть пыль, наткнулась на одну из тетрадей, на номер один, полагаю. «Так вот на что вы бумагу переводите!» Я на нее посмотрел. Она глупа, но не больше, чем другие. Она и не ждала ответа. Продолжила свою уборку, напевая дурацкие песенки, которые вертятся у нее в голове с тех пор, как ей исполнилось двадцать, а она так и не нашла себе мужа. Мне хотелось бы объяснить ей кое-что, но что именно? Что я двигаюсь вперед по строчкам, как по дорогам незнакомой и одновременно знакомой страны? Я опустил руки. И когда она ушла, снова принялся за дело. Хуже всего, что мне плевать на то, что станет с этими тетрадками. Сейчас я пишу в номере четыре. И уже не нахожу ни номера два, ни номера три. Должно быть, я их потерял или их взяла Берта, чтобы разводить огонь. Какая разница? У меня нет желания их перечитывать. Я пишу. И все. Это отчасти как говорить с самим собой. Я веду с собой беседу, беседу о другом времени. Наваливаю друг на друга портреты. Копаю могилы, не пачкая рук.
В то воскресенье я шагал по склону холма уже несколько часов. Чуть внизу остался маленький городок, скучившиеся домишки, а за ним, на некотором отдалении, виднелось нагромождение заводских зданий и кирпичные трубы, вонзавшиеся в небо, будто в глаз, который хотели выколоть. Пейзаж, наполненный дымом и работой, что-то вроде раковины с множеством улиток внутри, которой не было никакого дела до остального мира. Хотя мир был неподалеку: чтобы увидеть его, было достаточно подняться на холм. Наверняка поэтому семьи предпочитали для воскресных прогулок берега канала с его приятной меланхолией и спокойной водой, которую время от времени лишь едва тревожил плавник толстого карпа или нос баржи. Холм был для нас чем-то вроде театрального занавеса, хотя смотреть на спектакль никто не хотел. У каждого – своя трусость. Не будь этого холма, война захватила бы нас с потрохами, как настоящая реальность. А так удавалось ее обмануть, несмотря на долетавшие от нее звуки, похожие на выхлопы газов из больного тела. Война устраивала свои миленькие представления за холмом, довольно далеко по ту сторону, то есть в конечном счете нигде, где-то на краю света, который даже нашим-то не был. На самом деле никто не хотел на это взглянуть. Мы делали из этого легенду: так с этим можно было жить.
В то воскресенье я поднялся выше, чем обычно, но не так чтобы очень, всего на несколько десятков метров, скорее забывшись, и все из-за дрозда, которого я преследовал шаг за шагом, а он все перепархивал с место на место и кричал, приволакивая сломанное крыло с двумя-тремя каплями крови. Вот так, ничего не видя, кроме него, я, в конце концов, и добрался до самого гребня, который так только называется, потому что венчающий холм широкий луг делает его вершину похожей скорее на огромную руку, открытую в небо ладонь, поросшую травами и купами приземистых деревьев. Из-за ветра, теплого ветра, проникшего мне за воротник, я почувствовал, что пересек линию, ту незримую линию, которую все мы, кто оставался внизу, прочертили на земле и в наших душах. Я поднял глаза и увидел ее.
Она сидела прямо в густой, усеянной ромашками траве, и светлая ткань ее платья, рассыпавшаяся вокруг талии, напомнила мне «Завтраки» некоторых художников. Казалось, окружавший ее луг с цветами был здесь для нее одной. Время от времени ветерок вздувал пушистые завитки, осенявшие ее затылок нежной тенью. Она смотрела прямо перед собой, чего мы никогда не хотели видеть. Смотрела с прекрасной улыбкой, и по сравнению с ней все те улыбки, которыми она одаривала нас каждый день (хотя знает Бог, как они были прекрасны), казались бледноватыми и отстраненными.
Она смотрела на широкую равнину, бурую и бесконечную, мерцавшую под далекими дымами взрывов, чья ярость долетала до нас как бы смягченной и успокоившейся, одним словом, нереальной.
Вдалеке линия фронта сливалась с линией неба, да так, что временами казалось, будто множество солнц взлетает и падает, издав хлопок невзорвавшейся петарды. Война устраивала свой маленький мужественный карнавал на многих километрах, но оттуда, где мы были, это выглядело подделкой в декорациях для цирковых лилипутов. Все было таким крошечным. Смерть не противилась этой мелкости, она просто отдалялась вместе со своим скарбом – раздробленными телами, заглохшими криками, голодом, страхом в животе и трагедией.
Лизия Верарен смотрела на все это широко раскрытыми глазами. На ее коленях лежала раскрытая книга, как мне показалось сначала, но через несколько секунд учительница что-то написала там, и я понял, что это небольшой блокнот в красной сафьяновой обложке. Всего несколько слов карандашом, таким маленьким, что он терялся в ее руке, и пока она заносила эти слова на бумагу, ее губы шептали другие. Хотя, может, и те же самые. Подглядывая за ней вот так, со спины, я показался себе вором.
И только я это подумал, как она повернулась ко мне, медленно, оставляя свою прекрасную улыбку на далеком поле сражения. А я стоял столбом, как дурак, не зная, ни что сделать, ни что сказать. Окажись я перед ней голышом, и то не смутился бы больше. Попытался слегка поклониться. А она все сидела и смотрела на меня, и я впервые увидел у нее такое лицо, гладкое, как озеро зимой, лицо мертвой, я хочу сказать, мертвой внутри, словно в ней уже ничто не жило, не шевелилось, словно вся ее кровь куда-то утекла.
Это длилось долго, как пытка. Потом ее глаза соскользнули с моего лица к левой руке, державшей карабин Гашантара. Я понял, что она увидела. И покраснел как рак. Промямлил несколько слов, тотчас же о них пожалев:
– …Он не заряжен, это просто для… – И осекся. Глупее не придумаешь. Лучше бы уж промолчал. Она не отвела глаз, которые вонзались мне под кожу гвоздями, вымоченными в уксусе, повсюду. Потом пожала плечами и вернулась к своему незаконченному пассажу, оставив меня в другой вселенной, слишком уродливой для нее. Или слишком тесной, слишком удушливой. Это вселенная, которую боги и принцессы не желают знать, и лишь изредка проходят через нее – брезгливо и опасливо. Людская вселенная.
После того воскресенья я приложил весь свой талант к тому, чтобы избегать Лизию Верарен, как только замечу издали. Сворачивал в боковые улочки, прятался за дверными косяками или под своей шляпой, когда ничего другого не оставалось. Не хотел больше видеть эти глаза. В меня вселился великий стыд. Хотя если припомнить то воскресенье, не из-за чего было огород городить! Что я такое, в сущности, видел? Одиноко сидевшую девушку, которая что-то писала в своем красном блокноте, глядя на военный пейзаж. Да к тому же я ведь тоже имел полное право погулять в садах, коли мне пришла такая охота!