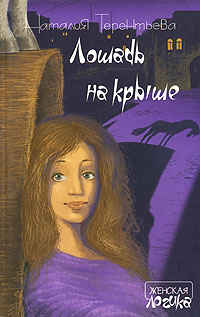Книга Каменная болезнь. Бестолковая графиня - Милена Агус
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Смотрите! Смотрите, какая красота!
Потом они брели чащей пушистых дубов, где тонкие стволы, покрытые мхом, сплетаются в узоры, похожие на снежинки; бабушка захватила с собой несколько фантастически красивых листьев и собрала пучок тимьяна, чтобы дома варить с ним бульон. Поглядывая на свои изящные, подбитые мехом ботиночки, она сравнивала их с уродливыми ботинками деда, думала о том, что хорошо к нему относится, и жалела, что не любит. С тоской и болью она спрашивала себя, почему в любви, которой нет ничего важнее в мире, Бог устроил все так нелепо: ты из кожи вон лезешь, а ее нет как нет, а вот сейчас — ведешь себя как стерва, даже своего шарфа не предложишь, а он плетется за тобой по снегу, посиневший от холода, вместо того чтобы есть местные равиоли с картошкой и поросенка на вертеле, а ведь он так любит хорошо поесть. На обратном пути ей стало так плохо на душе, что в темном автобусе она положила голову ему на плечо и горько вздохнула.
На дедушку было страшно смотреть, казалось, что он промерз до костей.
Дома она набрала горячую ванну, приготовила ужин и с ужасом смотрела, сколько он пьет. Не больше обычного, но раньше она этого не замечала.
И все-таки ночью было прекрасно. Лучше прежнего. Бабушка, уложив папу, сидела на кухне в старом халате и нижней рубашке и задумчиво грызла яблоко. Дедушка закрыл кухонную дверь на ключ, чтобы ребенок не мог зайти, и началась их обыкновенная игра в бордель: он приказал ей снять халат и белье и лечь на накрытый стол, как будто она была его любимым блюдом, зажег плиту, чтобы она не замерзла, и принялся ужинать с этой божьей благодатью — легко касался ее, не пропуская ни одного уголка тела, и прежде чем что-нибудь съесть, даже вкуснейшую деревенскую колбасу, он проводил ею по бабушкиной киске — именно так это называлось в борделе. Она больше не рассуждала о любви и хотела только продолжать игру.
— Я твоя шлюха, — стонала она.
Потом дед облил все ее тело вином и слизывал, ссасывал его, особенно с ее масляной груди, бывшей его главной страстью. Потом он захотел наказать ее — то ли за то, как она вела себя в горах, то ли еще за что-то, деда всегда было трудно понять — и он вытащил из брюк ремень, заставил ее ходить по кухне по-собачьи и бил ремнем — но осторожно, стараясь не сделать больно и не оставлять следов на ее красивых ягодицах. Бабушка ласкала его под столом, взяла в рот — все это она уже научилась делать ловко, — но время от времени поднимала голову и спрашивала, хорошая ли она шлюха, сколько заработала, и никак не хотела прерывать игру в бордель.
После долгой игры дед закурил трубку, а она, как всегда, свернулась на своем краю кровати калачиком и заснула.
С Ветераном все было иначе: по ночам ее переполняло счастье от великого открытия, которое она сделала, и было не до сна; она любовалась им в блеклом свете ночи, и когда он вздрагивал, как будто слышал выстрелы или разрывы бомб на ломающемся надвое корабле, она легонько трогала его, и он в ответ притягивал ее к себе, поэтому даже во сне они не отдалялись друг от друга. Тогда бабушка набиралась смелости, делала себе норку в изгибе его тела, забиралась в нее и сама укладывала его руку так, будто он обнимает ее за плечи и кладет ладонь на голову: в этой новой для нее позе ей было так хорошо, что казалось невозможным предаваться такому бессмысленному занятию — спать, когда ты счастлив. Она даже стала думать: как же живут влюбленные? И возможно ли так жить? И не решают ли они рано или поздно, что надо все-таки есть и спать?
Черная тетрадь с красным корешком теперь принадлежала Ветерану; он читал ее с требовательностью учителя, за каждую орфографическую ошибку, повтор слова и прочее шлепал ее, взъерошивал волосы и требовал, чтобы она потом все переписала. «Не веерно, не веерно», — говорил он, растягивая «э», как делают в Генуе и Милане, и бабушка не обижалась — наоборот, ей это очень нравилось. И до дрожи упивалась музыкой, которую он напевал ей, изображая голосом все инструменты оркестра, а потом через какое-то время повторял, и она узнавала классические произведения и называла авторов; он пел ей оперные арии, подражая женским и мужским голосам, читал стихи — например, стихотворения своего школьного товарища Джорджо Капрони, которые бабушке особенно нравились, потому что переносили ее в места, где она никогда не была — в Геную, которая казалась ей похожей на Кальяри. Она была такой же вертикальной: когда подплываешь к городу, а бабушка однажды плавала на барже, кажется, будто дома построены один на другом. Ветеран, его приятель, бедняга Дино Кампана,[29]кончивший в сумасшедшем доме, — все они описывали город, похожий на Кальяри: темный, запутанный, загадочный и влажный, внезапно распахивающийся навстречу «средиземноморскому солнцу». И как бы ты ни спешил, ты задержишься у каменного парапета или у железной решетки и бросишь взгляд на ослепительное небо, море и солнце. А внизу — крыши, террасы с геранью, развешанное белье, агавы на склонах и люди, чья жизнь кажется сверху мелочной и суетной, но радостной.
Из всех бабушкиных постельных услуг Ветерану больше всего нравилась самая сложная, гейша. Потому что дед довольствовался перечислением того, что будет на ужин, а Ветеран давал задания посложнее: например, описать пляж Поэтто, или Кальяри, или родную деревню, или рассказать что-то о повседневной жизни, или о прошлом, или о том, что она чувствовала, сидя в колодце, — и задавал множество вопросов, и требовал подробных ответов. Так понемногу бабушка излечилась от своей немоты и с удовольствием говорила и говорила о белоснежных дюнах Поэтто, об их домике в бело-голубую полоску — бывало, приедешь туда зимой, чтобы посмотреть, не обвалился ли домик после шторма, а вход занесло горами чистейшего песка, так что если отойти к линии прибоя и оглянуться, то могло показаться, что стоишь посреди заснеженной долины, особенно в морозные дни, когда приходилось натягивать шерстяную шапку и варежки и дома стояли с задраенными окнами и дверьми. Только дома эти — голубые, оранжевые, красные, а за спиной двигается и дышит море. Летом приезжали соседи с детьми и везли на тележке все нужные припасы. У бабушки было платье с двумя расшитыми карманами и на пуговицах спереди, специально для купания. Мужчины, когда приезжали на выходные, ходили в пижамах, махровых халатах и все поголовно накупили себе темные очки — даже дедушка, который всегда считал, что их носят только те, кого ta ganʼe cagai.[30]
Как дороги ей были Кальяри, море, деревня с запахами дерева, очага, навоза, мыла, зерна, помидоров, горячего хлеба.
Дороги — но не так, как ее Ветеран. Он был ей дороже всего.
С ним она ничего не стыдилась — даже вместе писать, чтобы выходили камни, ведь ей всю жизнь говорили, что она свалилась с луны, и вот она наконец встретила земляка, с той же луны, и ей казалось, что это и есть то самое главное, чего ей недоставало всю жизнь. После возвращения с вод бабушка больше не вымарывала свои настенные рисунки, сохранившиеся до сих пор в доме на улице Манно, не рвала вышивки, до сих пор красующиеся на карманах моих детских фартуков — которые, надеюсь, Бог даст, и я передам своим детям.