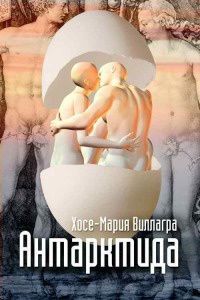Книга Последнее странствие Сутина - Ральф Дутли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сутин оттаивает, только когда рассказывает с благодарной радостью, как рисовал последний раз в деревне пейзаж со свиньями. В упоении от бесподобной, ничем не стесненной нечистоты животных. Приходит молодой французский врач, делает ему укол, чтобы язва на время утихомирилась. Спокойным голосом рассказывает о бедствиях оккупации, с которыми сталкивается каждый день, о разлагающихся телах, о паразитах, спутниках нужды. Все оскудевает.
Потом двери вдруг распахиваются. Появляется старик Оранш. Разражается гроза. Ругательства и проклятия, хлопанье дверями. Что это за свинарник, не можете хоть раз убрать за собой, если нагадили? Старик Оранш потерял терпение. Он выбрасывает их на улицу. Они придут опять, клянча, моля о приюте.
На Вилла-Сера стало слишком опасно. Необходимо постоянно менять жилье. Но жилья мало. Однажды ночью весной сорок первого Ма-Бе приводит его на улицу Плант, где она раньше жила с Максом, к своим старым друзьям Марселю Лалоэ и его жене, певице Ольге Люшер. И вот пара оборванцев появляется у дверей, Ма-Бе делает странный знак пальцами, молча просит впустить. Едва переступив порог, выдыхает:
Вы должны его спрятать, его ищет гестапо.
Ма-Бе не приходится долго объяснять, в соседней комнате на пол бросают пружинный матрас, спасательный плот в этом потоке несчастий, которому нет конца. Один матрас. Ничего больше. Он теперь не рисует. Обстоятельства вырывают кисть у него из рук, будто сговорились с кулаком боли, мнущим его желудок. Все объединяется, чтобы не дать ему рисовать: боль и спазмы, оккупанты и их унизительные предписания. Они живут на улице Плант три недели, Сутин пьет молоко с висмутовым порошком и слушает Баха, все пластинки, какие есть у Ольги, все до одной. Страсти по Матфею, без конца кантаты, вариации Гольдберга, искусство фуги, всё. Счастье найти приют у певицы, вложившей душу в свою коллекцию. Когда под конец черный диск не выдает ничего, кроме назойливого потрескивания, он поднимает рычаг с иглой и снова опускает у толстой кромки.
Бах и молоко, ничего больше. Дни напролет. Музыка из страны циклопов и молоко из страны будущего. Большие, жирные черные диски на непрестанно кружащейся тарелке и горькое молоко по карточкам. И снова она, эта невероятная музыка, говорящая с такой силой, словно ничего, кроме нее, не существует, словно в ее присутствии все остальное должно замолчать, танковые гусеницы, стук сапог. Все, кроме одной точки в его желудке. Эта точка не хочет слушать музыку. И все-таки убежище с тяжелыми черными дисками оказалось удачей.
Каждая кантата – стрела против черных мотоциклов и гремящих гусениц, и хотя эти стрелы отскакивают от металла, не принося никакого результата, они его единственное утешение. Он представляет, что эта музыка все еще будет звучать, когда металл превратится в кучу ржавого мусора.
Пусть сатана ярится и бушует.
Но уже в следующей после сатаны строке: Божия сила победу нам дарует! Иногда ему удается понять некоторые слова, раздающиеся из граммофона.
Мы пали слишком низко, и бездна поглощала нас совсем.
Но каким образом случилось так, что истошно орущие оккупанты и эта музыка происходят из одной и той же страны, родились на берегах одних и тех же рек, этого он понять не в силах. Голоса из той страны. Доктор Кнохен не слушает Баха?
Смотрите, как падает, рушится в прах все то, что Господь не содержит в руках!
И он вслушивается в музыку, стремясь извлечь из нее хоть искру надежды, хоть какую-то защиту от отчаяния. Но: Как зыбка моя надежда, как боязливо мое сердце. Перед войной Генри Миллер, сосед Сутина на Вилла-Сера, постоянно предлагал ему свои американские джазовые пластинки. Даже уговаривал.
Прошу вас, месье Сутин, скажите, чего бы вам хотелось, у меня наверху превосходная небольшая коллекция. Можете слушать все, что захотите. Там наверху Америка, черные волшебники с каплями пота на лице играют на своих золотых инструментах.
Сутин с благодарностью отказывается. Для него нет никакой другой музыки. Бах. И точка. Бах был для него как молоко. И порошок висмута.
И в Клиши у странноватого доктора, который сделал ему укол, когда его скрутило на улице, они тоже заговорили о музыке. Врач сказал:
Немецкая музыка кажется мне провинциальной, тяжеловесной, грубой!
Художник в ответ:
Но Бах великолепен! Кантата 106, как ее играет Ванда Ландовска на клавесине!
Долгие дни без живописи. Ничего, кроме молока и Баха. Вытянувшись на матрасе, со взглядом, устремленным в потолок. В укрытии с Бахом. Кто знает, как близок мой конец. А иногда, после многочасовых черных дисков, он начинает напевать что-то из далекого детства. Это единственное, что он хотел сохранить, несколько песен, которые он иногда бурчал себе под нос, и ничего больше из того, что связывало его со Смиловичами. «Теленка» нужно оставить.
Когда Ольга приходит домой, он расспрашивает ее о Бахе, выпытывает все, что она знает. Как он в девятилетнем возрасте потерял мать, а в четырнадцать стал круглым сиротой. Рядом умирали его братья и сестры, один за другим, и трое из семи детей, которые были у него с Марией Барбарой, тоже умерли вскоре после рождения, и семь из тринадцати детей, которые ему подарила Анна Магдалена, он проводил их в могилу под свою собственную музыку, после того как они уже успели стать веселыми, прыгающими на одной ножке, играющими в «небо и ад» и славящими Бога созданиями. И Бог хотел, чтобы его славили еще больше. Поистине смерть всегда сидела с ним за одним столом, поднималась с ним на хоры, шла всюду рядом, садилась с ним за орган.
Сутин противится невольному воспоминанию, ему приходят на ум одиннадцать детей Сары и Соломона, детей, из которых он был предпоследним. Он видит, как дети Баха снова и снова поднимаются на небеса к немилосердному Богу, которого их отец должен был славить. Ольга рассказывала:
Никакой другой композитор мира не был окружен смертью теснее, чем Бах. Смерть считала себя полноправным членом семьи. Осаждала его с неослабевающей силой. О смерти своей первой жены он узнал, вернувшись из путешествия в Карлсбад. Ее уже похоронили. Он с плачем побежал на погост. Значит, смерть снова его навестила. С меня довольно, – такие слова он кладет на музыку и: Несчастный я человек. И Сутин не может наслушаться, внимает с раскрытым ртом.
Ах, это сладкое слово… ободряет и мое сердце… которое прозябает… в вечном воздыхании и муке… и будто червь копошится… в собственной крови… я словно заблудшая овца… среди тысячи злобных волков… беззащитный агнец… не ведающий спасения… от ярости и жестокости их.
Но дни кажутся бесконечными для того, кто вынужден скрываться. Матрас будто тюрьма. Жизнь среди тысяч волков на парижских улицах. Мучительное сознание, что он обуза для других, что он отнимает у них место, хотя они его и терпят. Лежание без дела, невозможность рисовать. Три месяца он выходил из дома только по ночам. Бесшумно проскальзывал мимо ложи консьержа на ночную парижскую улицу, когда Марсель шел гулять с собакой. Наконец-то воздух, атмосфера комендантского часа. Ни души. Они жались к подворотням и подъездам, готовые в любую секунду нырнуть в темноту, если кто-то покажется навстречу.