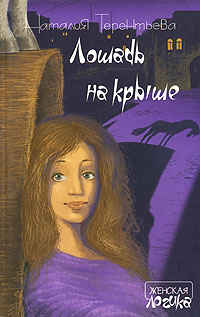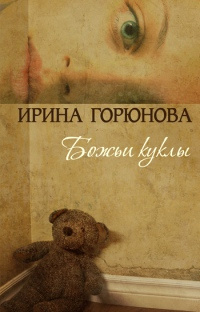Книга Прискорбные обстоятельства - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сколько себя помню, я всегда плохо усваивал спиртное, и потому по возможности пытаюсь уклоняться от подобных застолий. Однако же всякий раз по приезде на дачу принужден пить с Серокуровым — когда больше, когда меньше, но по определенному, необъяснимо сложившемуся, как если бы сложился сам по себе, ритуалу.
Этот ритуал соблюдался нами неукоснительно, без просьб, понуканий и напоминаний друг другу.
Сначала мы выбирались из машины, запирали дощатые ворота — одни на два наших участка — и сосредоточенно, не сговариваясь, отправлялись по своим углам. На пороге каждый обивал снег с обуви, звенел засовами и замками, скрипел обмороженными дверьми — и в настоянной хрусткой тишине дачного кооператива, зовущегося Сосновым Бором, подробно и чутко слышал, что делает другой, как если бы не на соседнем участке находился, а совсем близко, в двух шагах, рядом. После, растапливая печь, я видел в окно, что и над серокуровской дачей кучерявится сизый дымок, что этот дымок постепенно набирается, точно губка, густо-серым, с желтым и коричневатым отливом, цветом и наконец густеет и исходит в хмурое небо темной пепельной полосой. Затем до меня доносились звуки, напоминавшие удары колотушкой по сухому дереву, и отрывистое хриплое хеканье: это неугомонный сосед принимался рубить дрова — с размахом и остервенением, как рубили в давние времена головы супостатам лихие царские опричники.
«Не дай господи попасться такому в лапы!» — всякий раз приходила в голову странная мысль, хотя ничего дурного на моей памяти за Серокуровым не водилось, кроме того давнего, до сего дня так и не проясненного случая…
Когда же растекалось по дощатому полу первое тепло, доставались и раскладывались по столу привезенные из города припасы, и уже шипела и брызгала раскаленным жиром закопченная чугунная сковорода, тогда у кого-нибудь из нас вдруг обнаруживался изъян в приготовлениях, как то: заканчивалась соль или не был куплен по недоразумению хлеб. И вот уже за окном набегали к крыльцу соседские шаги или, напротив, я спешил к Серокурову, а то, наперед не сговариваясь, мы необъяснимо встречались на полдороге друг к другу. «У меня тут…» — говорил кто-либо один, но выражение глаз в такие минуты было у нас абсолютно одинаковым. Как же, и в самом деле, было нам не сбежаться, не посидеть дотемна, не выпить, если у соседа — яичница-глазунья, да еще с лучком, да на сале!
И вот мы сидим в серокуровской времянке и пьем. Пьем и молчим, молчим и пьем. И витаем в своих мирах, которые почти не пересекаются — за ненадобностью.
Скрип-скрип! — под тяжестью тела стенает заезженное кресло-качалка, опля-опля! — возносятся и ниспадают долу драные шлепанцы, — Серокуров качается с сигаретой в прокуренных зубах, глаза полузакрыты, в руке — стакан с недопитой водкой. А где же я? Я укрылся в углу дивана, среди неистребимых кошачьих запахов, сам себе невидим, а потому незрим, — невидимке легче бороться с хмелем, который медленно, но неотвратимо побеждает тебя.
— Пам-парам-парам! — цедит сквозь зубы Серокуров, затем втягивает щеки и, двигая губами, выпускает в потолок синюшное кольцо дыма. — Гниды — это такие домики на волосах с зародышами паразитов. Заведется на голове вошь, потом — еще одна, и вот уже они спариваются, плодят деток, строят домики… Женя, у тебя на голове не завелся еще оптимистический капитализм? Это чтобы кому-то было хорошо жить за твой счет, питаться тобой и на тебя же гадить. А ты чешись себе, Женя, чешись! Были еще анархизм, социализм, коммунизм… И еще что-нибудь подобное будет. Меня из всех этих «измов» удовлетворяет исключительно гедонизм!
Я молчу в своем углу, потому как из глубины моего естества медленно поднимается по пищеводу изжога, — я ощущаю приближение ко рту чего-то горчично-мерзостного, пытаюсь уловить это нечто на вкус, затолкать глотками обратно. Увы мне, увы! Легче уж надраться до омерзения, чтобы хмель окончательно одолел и меня, и изжогу, и безжалостный мир вокруг нас.
А может, это и не изжога вовсе? Может, это мысли меня донимают — все об одном и том же, неотступно портят мне желудок и кровь. Пока я растапливал печь, возился с привезенными продуктами, пока готовил себе ужин, я прикидывал так и эдак: все ли у меня чисто здесь? Целы ли бумаги, правильно ли эти бумаги оформлены, за все ли работы заплачено — при приобретении материалов, строительстве дачи, приватизации участка? Не здесь ли, в этом лесу, сидит черт и глумливо крутит мне кукиш?
Кстати, Зязиков из земельного управления — что-то давненько его не видно. Раньше, бывало, поганой метлой не выметешь — то в кабинет явится за каким-нибудь пустяком, а то, непрошеный, скрипнет дачной калиткой: «Как драгоценное здоровье?.. Не уделить ли внимание шашлычку, Евгений Николаевич?.. А ежели бутылочку “Цинандали”?..» Помнится, что-то этот курдупель намутил с бумагами, ускорил их оформление — всенепременно хотел угодить. Или намеренно напортачил, чтобы, если всплывет «липа», понудить меня вмешаться, а заодно помочь и с другими, более серьезными его делишками?..
— Женя, ау!
Серокуров тянется ко мне со своим стаканом, и мы чокаемся — коротко, глухо, уныло. Водка уже отдает во рту спиртом, а сие для меня — верный признак, что пора завязывать: еще полстакана — и наутро не подниму головы.
«Хорошо таким, как Серокуров, — думаю я не без некоторой доли зависти. — Пьют едва не с младенчества, пьют всю жизнь, а ничего им не делается, ничего с ними не случается, кроме инсульта и внезапной смерти. Но внезапная смерть быстра и, верно, безболезненна, а потому милость Божия. Со мной все иначе: пить начал поздно, пил недолго и неумело, и вот уже наступила пора завязывать — поджелудочная железа не выдерживает и такое прочее… А ведь только вошел во вкус!»
— Наша система — раковая опухоль! — шипит тем временем Серокуров, все быстрее мелькая тапками, и я слышу, что голос его как бы подсел, слова стали протяжны, с запинкой, а значит, не меня одного сегодня одолел необоримый алкоголь. — Помнишь, у древних египтян был символ — змея, пожирающая свой хвост? Не знаю, о какой бесконечности они трактуют, эти покойные египтяне, а если по мне, так это не символ, а самая что ни есть неподдельная правда: наша управа, аки змея, пожирает самое себя. Такой вот получается уроборос! И все вы, кто еще уцелел, по указке сверху пожираете друг друга. Ладно бы одного меня — но ведь и вас вскорости поодиночке сожрут! Таковы условия игры: все поедаемы, никого не жалко. Особенно самых преданных и достойных. Пусть ты не жрешь, но ты с ними, хочешь или не хочешь. А там, глядишь, и тебе придется…
Он громко глотает — как сглатывают рвотный ком, гасит окурок о край стола и снова запускает свою качалку в путь, с таким остервенением гремит ею об пол, что один тапок слетает с ноги и, прошелестев по параболе мимо моего уха, шлепается за спинку дивана.
— Возьмем, к примеру, меня. Я выиграл все суды — это раз, проститутки, которые убили преподобного, давно отсидели, вышли с чистой совестью на свободу и снова пьют пиво, курят бамбук и трахаются за деньги — это два. А со мной все та же волынка! Не хотят, сволочи, признаться: были не правы, погорячились, извини, старина Серокуров, возвращайся на работу. Вместо этого мутят, давят на следователя, на судью, подводят под это мертвое дело любую, самую неподходящую статью из кодекса, какое-нибудь «оставление в опасности», лишь бы не идти на попятную… Добивают ни за что — своего!