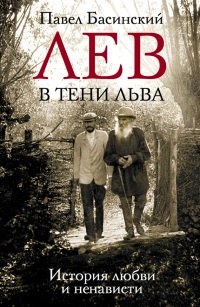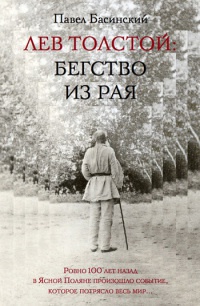Книга Книга о русских людях - Максим Горький
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Приглашая меня обедать к себе, он сказал:
— Копченой рыбой угощу — прислали из Астрахани.
И, нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:
— Присылают, точно барину. Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают. Ерунда.
Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжелой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Его внимание к ним возвышалось до степени нежности, свойственной только женщине, и каждую свободную минуту он отдавал другим, не оставляя себе на отдых ничего.
Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:
— Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу… Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо, устал. Надо поддержать. Настроение — немалая вещь.
На столе лежит том «Войны и мира».
— Да, Толстой. Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.
Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:
— Какая глыба, а? Какой матерый человечище… Вот это, батенька, художник… И — знаете, что еще изумительно в нем? Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа подлинного мужика в литературе не было.
Потом, глядя на меня азиатскими глазками, спросил:
— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Некого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный, жмурясь, точно кот на солнце.
Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней стыдливый отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:
— Наши работают бойчее.
А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:
— Гм-м, а не забываете вы Россию, живя на этой шишке?
В. А. Строев-Десницкий сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:
— Они своих не знают, а мы знаем.
Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым» людям.
Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и немало других крупных русских людей, каким-то чудесным чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердцем».
Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:
— Так смеяться может только честный человек.
Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объяснили ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:
— Кози: дринь-дринь. Капиш?
Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:
— Ага. Дринь-дринь.
Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:
— Синьор Дринь-Дринь.
Он уехал, а они всё спрашивали:
— Как живет синьор Дринь-Дринь? Царь не схватит его, нет?
В 1907 году, в Лондоне, несколько рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:
— Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек — Бебель или еще кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится.
Другой рабочий добавил, улыбаясь:
— Этот — наш. Решительный.
Ему возразили:
— И Плеханов наш.
Я услышал меткий ответ:
— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — товарищ наш.
Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина.
— Простота. Прост, как правда.
Сказал он это как хорошо продуманное, давно решенное.
Известно, что строже всех судят человека его служащие.
Но шофер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:
— Ленин — особенный. Таких — нет. Вот — везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь, изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я — старый шофер, я знаю, так никто не сделает.
Старый знакомый мой, тоже сормовский, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чека. Я сказал ему:
— И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.
Он грустно согласился:
— Совсем не по характеру. Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и — стыдно мне слабости своей.
Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» — насиловать органический социальный идеализм свой ради торжества дела, которому они служат.
Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»? Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в свой душе. Но однажды, в Горках, лаская каких-то детей, он сказал:
— Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.
И, глядя вдаль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:
— А все-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понято, все.
Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно легкими и бережными прикосновениями.