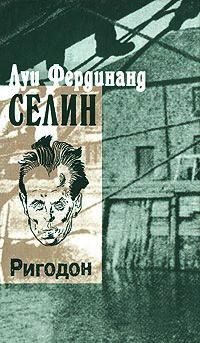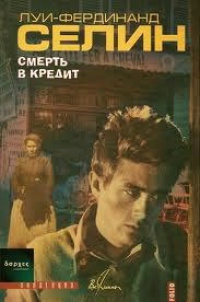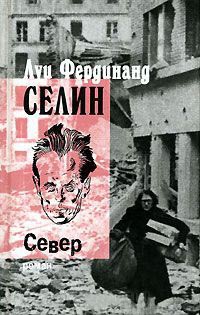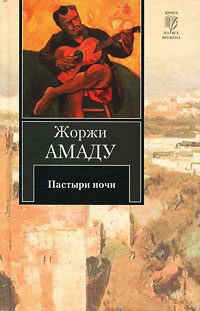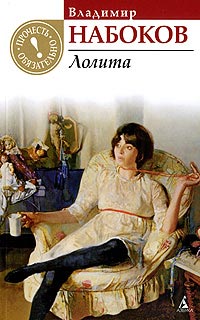Книга Путешествие на край ночи - Луи-Фердинанд Селин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И так далее, и приступ тянулся неделями. Она была впрямь влюблена и занудна. Каждый вечер возвращалась к своему любовному помешательству. В конце концов она согласилась оставить склеп на мать, но с условием, что мы вместе поедем искать работу в Париж. Всегда вместе!.. Ну и номерок! Она готова была понять что угодно, кроме одного — моего желания разъехаться с ней в разные стороны. Тут уж ничего нельзя было поделать. Ну и конечно, чем сильней она за меня цеплялась, тем больше меня от нее воротило.
Не стоило даже пробовать образумить ее. Уж я-то знал, какая это пустая трата времени: она бы только пуще взбеленилась. Вот и пришлось мне придумать ход, чтобы отвязаться от ее любви, как она все это называла. Мне пришло в голову пугнуть ее, набрехав, что я по временам делаюсь психом. Мол, это на меня припадками накатывает. Неожиданно. Она посмотрела на меня искоса, с недоверчивым видом. Подозревала, что это просто новая байка. Но все-таки призадумалась — я ведь столько нарассказал ей о своих прошлых похождениях и о войне, а тут еще моя комбинация с мамашей Прокисс и внезапное охлаждение к ней самой…
Думала она целую неделю и все это время не приставала ко мне. Наверняка рассказала о моих припадках мамочке. Как бы то ни было, они уже не так настаивали, чтобы я остался с ними. «Порядок, — обрадовался я. — Сработало. Я свободен». Я уже представлял себе, как без скандала, тихо и спокойненько сматываюсь в Париж… Нет, погоди!.. Я перемудрил. Ломал себе голову, уже решил, что нашел верный ход, как навсегда убедить ее, что сказал правду. Что я настоящий псих — психованней не бывает.
«На, пощупай, — говорю я как-то вечером Мадлон. — Чувствуешь шишку у меня на затылке? А шрам над ней? Ну как, здоровая шишка, а?»
Пощупала она шишку у меня на затылке и растрогалась, ну, просто не описать как. Нисколько ей противно не стало, наоборот, она еще больше размякла.
«Вот куда меня долбануло во Фландрии. На этом месте мне башку и трепанировали», — гнул я свое.
«Ох, Леон, — вскинулась она, потрогав шишку, — прости меня, Леон, милый! До сих пор я сомневалась в тебе, но теперь от всего сердца прошу прощения. Я все уразумела. Я подло вела себя с тобой. Да, да, Леон, я была отвратительна. Я никогда не буду больше такой злою. Клянусь тебе. Я все искуплю, Леон. Сейчас же! Ты не помешаешь мне, правда? Я сделаю тебя счастливым. Буду ухаживать за тобой. Прямо с сегодняшнего дня. Всегда буду терпеливой. Кроткой. Вот увидишь, Леон! Я научусь так тебя понимать, что ты не сможешь без меня обходиться. Я возвращаю тебе свое сердце. Принадлежу тебе. Вся, Леон. Я отдаю тебе свою жизнь. Только скажи, что прощаешь меня, Леон».
Я словечка не вставил. Говорила только она. Это же было просто — валяй отвечай сама себе. Я уж и не знал, как заставить ее заткнуться.
Пощупав мой шрам и шишку, она вроде как разом закосела от любви. Ей опять захотелось обхватить мою голову руками, а потом, отпустив, сделать меня счастливым на веки вечные, нравится мне это или нет. После этой сцены мать ее лишилась права орать на меня. Дочка ей пикнуть не давала. Ты бы не узнал Мадлон: она защищала меня, что бы я ни делал.
С этим пора было кончать. Я, понятно, предпочел бы расстаться добрыми друзьями. Но тут нечего было и пытаться. Ее распирало от любви, а она упряма. Как-то утром ушла она с матерью за покупками, а я сложил вещички в узелок, как ты в Драньё, и слинял по-тихому. Надеюсь, после этого ты не скажешь, что у меня терпения не хватает? Повторяю только — ничего поделать было нельзя. Теперь ты все знаешь. И раз я говорю, что эта малышка способна на все и запросто может с минуты на минуту припереться за мной сюда, ты мне не вкручивай, что у меня галлюцинации. Я знаю, что говорю. И ее знаю. И по-моему, для всех будет спокойней, если она найдет меня среди твоих психов. Мне так легче прикидываться будет, что я больше ничего не понимаю. С ней только так и надо — не понимать.
Еще несколько месяцев назад рассказ Робинзона заинтересовал бы меня, но я вроде как неожиданно постарел.
В сущности, я все больше уподоблялся Баритону — на все мне было плевать. Все, что Робинзон нарассказал о своей тулузской авантюре, не казалось мне подлинной опасностью. Как я ни силился проникнуться интересом к его делу, от этого дела упорно несло чем-то затхлым. Что ни говори, что ни проповедуй, а мир уходит от нас много раньше, чем мы уходим от мира.
Однажды вы начинаете все меньше говорить о вещах, которыми больше всего дорожили, а уж если говорите, то через силу. Вы по горло сыты собственными разговорами. Всячески стараетесь их сократить. Потом совсем прекращаете. Вы же говорите уже тридцать лет. Вы даже не стараетесь больше быть правым. У вас пропадает желание сохранить даже капельку радостей, которую вы сумели себе выкроить. Все становится противно. Теперь на пути, ведущем в никуда, вам достаточно всего лишь малость пожрать, согреться и как можно крепче уснуть. Чтобы возродить в себе интерес к жизни, следует изобрести новые гримасы, которые вы будете корчить перед другими. Но у вас уже нет сил менять репертуар. Вы бормочете что-то невнятное, придумываете разные извинения и уловки, чтобы по-прежнему остаться среди своих, но рядом с вами, не отходя ни на шаг, уже стоит смердящая смерть, простая, как партия в белот. Вам останутся дороги только мелкие горести, например что вы не нашли время посетить, пока он еще был жив, старого дядю в Буа-Коломб, допевшего свою песенку февральским вечером. Это и все, что уцелело от жизни. Это маленькое раскаяние жестоко мучит вас, все же остальное вы с усилиями и мукой более или менее выблевали по дороге. Ваши воспоминания — всего лишь старый фонарь, висящий на углу улицы, где больше почти никто не ходит.
Поскольку скучать все равно приходится, наименее утомительно делать это при регулярном образе жизни. Я добивался, чтобы к десяти вся лечебница была уже в постели. Свет выключал самолично. Дела шли сами собой.
К тому же напрягать воображение нам особенно не приходилось. Система Баритона — «дебилов в кино» — отнимала у нас достаточно времени. Экономия в лечебнице соблюдалась слабо. Мы надеялись, что наша расточительность, может быть, заставит патрона вернуться: она наверняка внушала ему беспокойство.
Мы купили аккордеон: пусть Робинзон летом заставляет пациентов танцевать в саду. Днем и ночью занимать больных хоть чем-нибудь было в Виньи нелегко. Вечно отправлять в церковь — немыслимо: они там слишком скучали.
Известий из Тулузы не было, аббат Протист тоже больше меня не навещал. Быт в лечебнице устоялся, монотонный, тихий. В нравственном смысле мы чувствовали себя не очень уютно. Слишком много призраков со всех сторон.
Прошло еще несколько месяцев. Робинзон повеселел. На Пасху наши сумасшедшие заволновались: перед нашим садом замельтешили женщины в светлом. Ранняя весна. Бром.
В «Тараторе», с тех пор как я подвизался там статистом, персонал сменился уже много раз. Англичаночки, как мне рассказали, уехали далеко-далеко — в Австралию. Больше мы их не увидим.
Кулисы после моей истории с Таней были для меня закрыты. Я не настаивал.
Мы принялись писать куда попало, особенно в наши консульства в странах Севера, чтобы получить хоть какие-нибудь сведения о возможных передвижениях Баритона. Ничего интересного нам не сообщили.