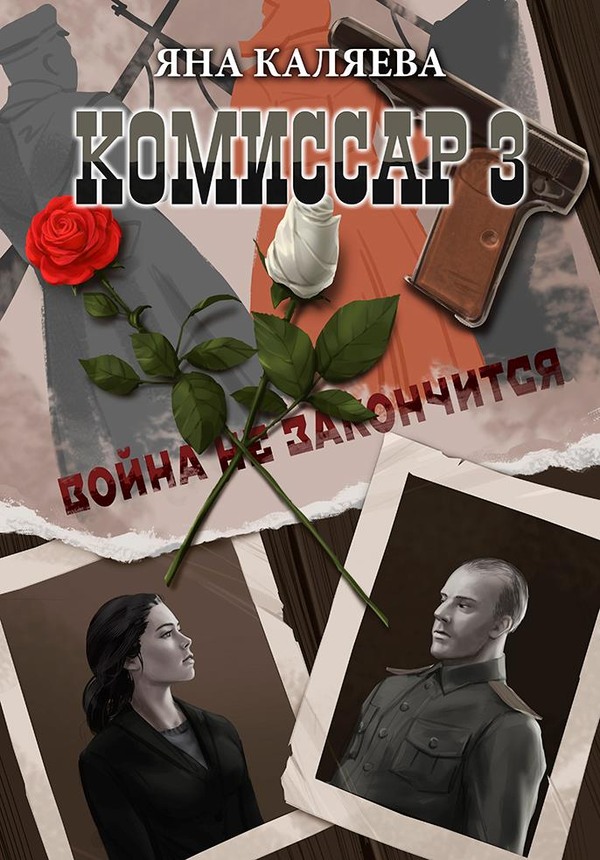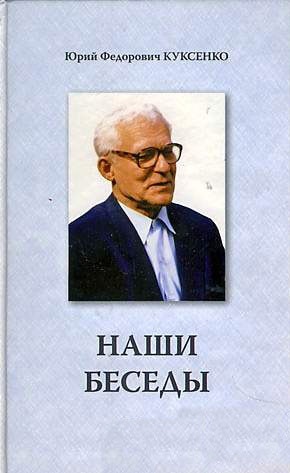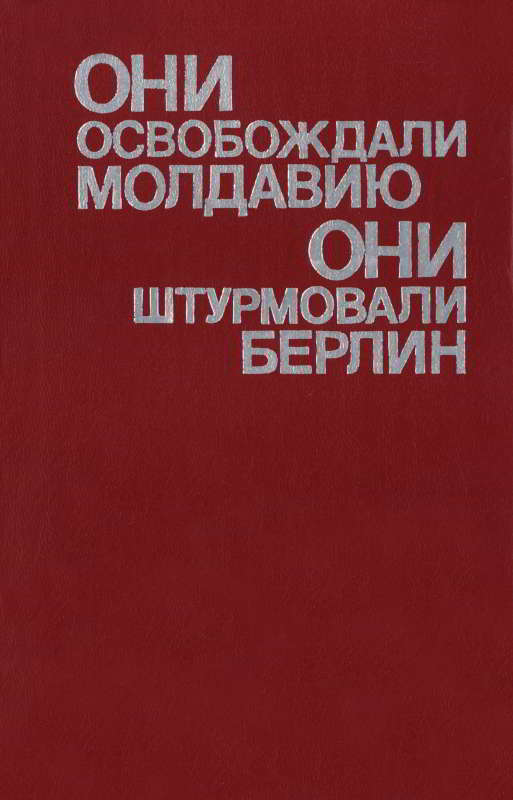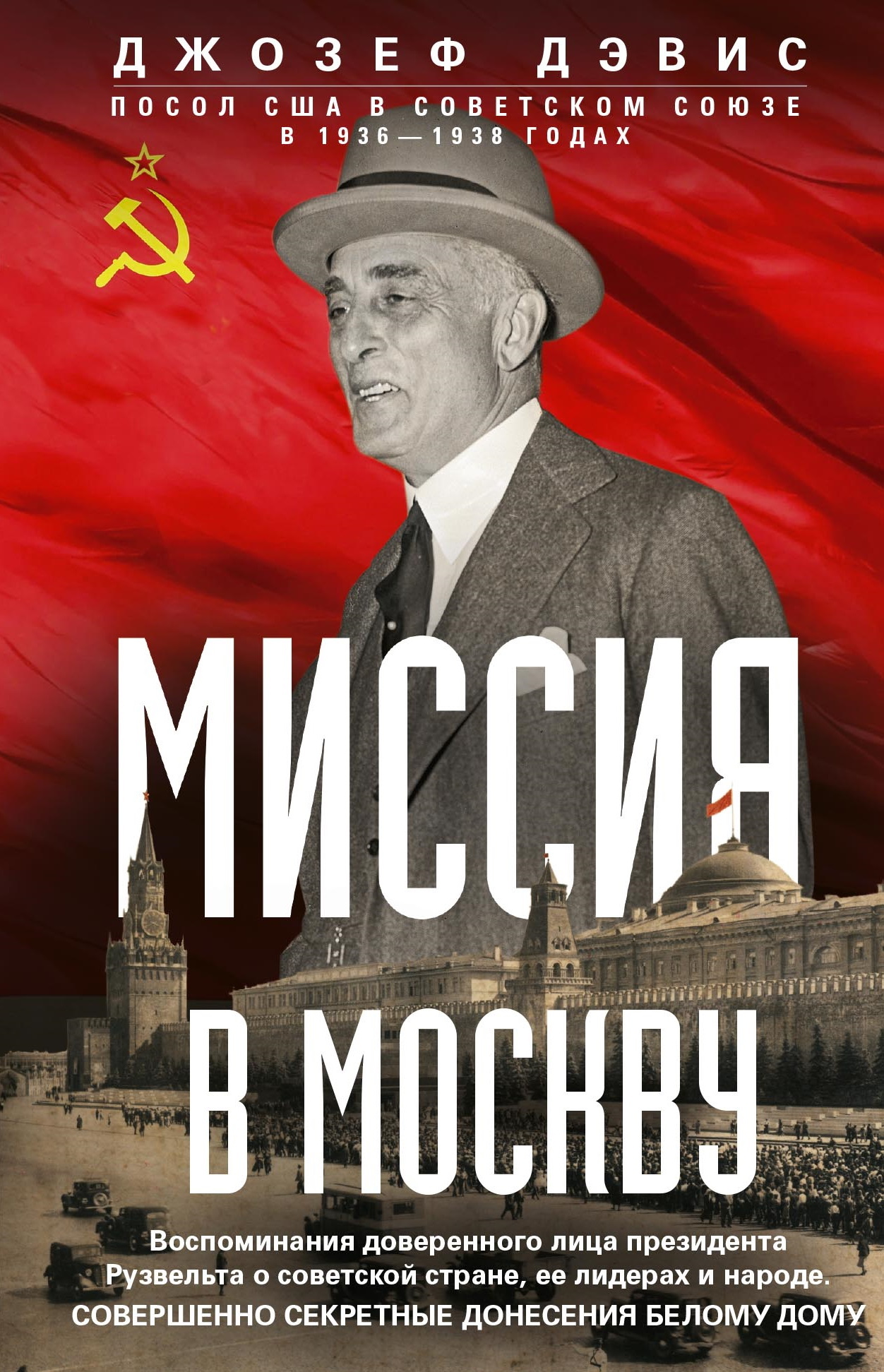Книга Расул Гамзатов - Шапи Магомедович Казиев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Есть головы из ног, прости Аллах,
И головы, которые ногами были[182].
В трудные времена слово писателя значило очень много. Литераторы всегда ощущали свою ответственность за человечество, взваливая на себя непосильное бремя, которое им каким-то чудом удавалось нести. Своими книгами они вдохновляли народы. Одни, как Кампанелла, даже в кандалах писали о грядущем царстве света. Другие сражались с пороками мира. Порой сражались, как Дон Кихот с ветряными мельницами, но даже это приносило благодатные плоды.
Поэт Валерий Шамшурин вспоминал, как Гамзатов называл Ельцина подрывником, разрушающим мосты, как негодовал о пренебрежении культурой: «Раньше... Церковь у нас была отделена от государства, а теперь отделена культура. А что, как не культура, больше всего способствует объединению и развитию. Даже мысль требует культуры, без чего засыхает и наука. А любовь? Нет настоящей любви, если нечистые чувства и стремления, если она не укреплена традициями и культурой народных обрядов. Нельзя убивать любовь. В кого же может превратиться человек?»
Расула Гамзатова не раз приглашали участвовать в избирательной кампании Бориса Ельцина, но он отказывался, хотя и понимал, что Ельцин победит. Дочь Патимат вспоминала, что с кем-то в разговоре Гамзатов сказал, что Ельцин — «всадник без головы». Когда Ельцин наградил его орденом Дружбы народов, Гамзатов на вручение не поехал.
Литература с её великими гуманистическими традициями ещё на многое была способна, но оставалась невостребованной. Зато в политических противостояниях известные поэты ценились, и Гамзатова не раз пытались в них втянуть. Но его влекло другое, то, по чему соскучилась его поэтическая муза.
Орать с трибуны предлагают мне,
Не лучше ли шептаться в тишине
С красавицей застенчивой и юной,
Чем глотки драть на митинге с трибуны?[183]
В апреле 1999 года Расула Гамзатова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» за выдающийся вклад в развитие многонациональной культуры России.
«Награды — не самое главное, — говорил поэт, беседуя с Фатиной Убайдатовой. — Важнее истина, признание народа. Сегодня даже то, что противоречит поэзии, стало поэзией. Не помню ни одного настоящего поэта, который бы не был страдальцем. Двадцатый век уходит, кто останется? Блок, Пастернак, Гумилёв, Цветаева, Ахматова — всех их преследовали и без единой награды похоронили. Но у них была другая награда — признание народа. А я по сравнению с ними праздно жил. Правда, о многом жалею».
Многочисленные награды поэта уже не гарантировали привычно большого количества изданий. Гонорарное половодье иссякало, мелели финансовые реки, пересыхали их привычные русла... Но Гамзатов беспокоился не о себе, а о своих коллегах:
«Взять нас, писателей. Мы должны книги писать, издавать их, получать деньги за свой труд, содержать себя и семью, — говорил Гамзатов в интервью с Надеждой Тузовой. — Сейчас если шестидесяти- или семидесятилетний писатель хоть небольшую пенсию получает, то сорокалетний не имеет ничего! Как жить? Да и авторитет писателя упал. Раньше один писатель говорил — тысячи человек слушали. Сейчас тысячи говорят — одного слушателя не найдёшь. Богатым читать некогда, а бедным книги купить не на что».
Не желая принимать то, что происходило вокруг, Расул Гамзатов не раз говорил, что ему надо бы писать не стихи, а книгу «Это не мой Дагестан». То, что сделали с Кавказом, со всей Россией, он воспринимал как предательство, как государственное преступление и личное оскорбление.
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ ИЗ ПЕСЕН»
В мае 1999 года широко отмечалось двухсотлетие Александра Пушкина. Любовь к великому поэту в семье Гамзата Цадасы стала наследственной.
С милым томиком Пушкина
Встретил я юность,
На столе моём рядышком
Блок и Махмуд...[184]
Расул Гамзатов писал: «“На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн”, — сказал Пушкин о Петре Великом. Теперь всему цивилизованному миру ясно, что сам Пушкин стал Петром Первым русской поэзии — смелым и могучим преобразователем, ускорителем культурного возрождения великого народа.
Мне дорог Пушкин прежде всего тем, что он преданно любил Россию. Но он становится мне ещё и ещё ближе при укоренившейся в сознании мысли, что подлинно русский поэт, по словам Гоголя, “единственное явление русского духа”. В век самодержавного высокомерия с надеждой и верой думал он о том времени, когда “народы, распри позабыв, в великую семью соединятся”...
Пушкин сопровождает нас всю сознательную жизнь, но на склоне лет мы как бы возвращаемся к нему, будто на исповедь. Помню, как в больнице Твардовский перечитывал письма Пушкина. В годы моей молодости старый Маршак посоветовал: читайте Пушкина! Теперь я понимаю, как глубоко и Твардовский и Маршак были правы. Нравственные заветы Пушкина — на всю жизнь, на века!..
Прав был тот, кто изрёк, что гений — это символ. Пушкин стал символом света и совести. Но даже имя гения не обошлось без капризов сплетения хулы и хвалы. Как бы ни было горестно, приходится вспомнить призывы: то — “сбросить его с корабля современности”, то — “назад, к Пушкину”. Кое-кто приноравливался даже встать рядом с ним, а то и с надеждой примеривался к его пьедесталу. Но всё суетное потерпело безнадёжный провал, ибо Пушкин — величина неизменная и ни с чем несоизмеримая».
Гамзат Цадаса, сказавший о Пушкине: «Певец, народа собеседник», перевёл на аварский язык его «Памятник». Ощущение сопричастности к наследию гения, которое с годами лишь усиливалось, подвигло и Расула Гамзатова на продолжение традиции осмысления миссии творца. Восходящая к оде «Exegi monumentum» («Я воздвиг памятник») Горация, поэта золотого века древнеримской поэзии, эта традиция не прерывается тысячи лет. Гораций написал:
Я памятник себе воздвигнул долговечный,
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно
Не сокрушат его. Не весь умру я, нет:
Больша'я часть меня от строгих парк уйдёт;
В потомстве возрасту я славой справедливой...[185]
Вечная мечта о бессмертии, надежда придать смысл бренному существованию, утвердить в памяти потомков свои творческие озарения волновали поэтов во все времена.
Гораций и сам продолжал более древнюю традицию, но его ода «Памятник» считалась классической. Переводы, подражания, переложения оды стали особым поэтическим жанром и были неисчислимы. Немало было их и в России. «Памятник» Горация шествовал через века, как ожившая статуя Командора из пушкинского «Каменного гостя». В разных стилях, разным