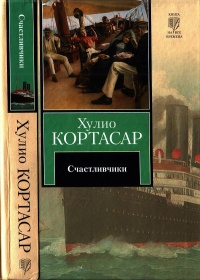Книга Игра в классики - Хулио Кортасар
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
(-53)
В те дни его мучило беспокойство, а дурная привычка подолгу мусолить одно и то же вовсе добивала, но он ничего не мог с собой поделать. Он беспрестанно возвращался к своему главному вопросу, а то неуютное состояние, в котором он жил по вине Маги и Рокамадура, побуждало его все глубже анализировать ту западню, в которую он попал. В таких случаях Оливейра брал чистый лист бумаги и писал главные слова, определяющие ход его мысленной жвачки. Например, он писал: «Виликий вапрос» или «зопадня». Этого было достаточно, чтобы расхохотаться и с удовольствием заварить себе еще один мате. «Единение, — писал Холивейра. — Мое эго и его эго». Подобные графологические штуки действовали на него, как на других пенициллин. Становилось легче, думалось спокойнее. «Самое главное — не слишком заноситься», — говорил себе Оливейра. После чего чувствовал, что способен думать без того, чтобы слова играли с ним самым подлым образом. Прогресс, однако, был чисто теоретическим, поскольку великий вопрос был все равно неразрешимым. «Кто бы мог подумать, парень, что ты кончишь метафизиком? — спрашивал себя Оливейра. — Если надо выдержать напор трехстворчатого шкафа, че, попытайся не поддаваться хотя бы тумбочке, в часы еженощной бессонницы». Приходил Рональд и предлагал ему подключиться к своей маловразумительной политической деятельности, и всю ночь (Мага тогда еще не привезла Рокамадура из деревни) они проспорили, как Арджуна с Возничим,[648] о действии и пассивности, о причинах, по которым стоит рисковать в настоящем во имя будущего, этой непременной составляющей каждого действия, направленного на социальные цели, о той мере, в которой риск может хоть как-то прикрыть порочность сознания того, кто рискует, и те личные мерзости, которые он совершает каждый день. Рональд в конце концов ушел расстроенный, так и не убедив Оливейру в необходимости поддержать выступления мятежных алжирцев. Дурное послевкусие не покидало Оливейру целый день, потому что гораздо легче сказать «нет» Рональду, чем себе самому. В одном он был абсолютно уверен: нельзя, не предав что-то в себе, отказаться от пассивного ожидания, в котором он жил со дня приезда в Париж. Уступить поверхностному великодушию и пуститься в расклеивание на улицах антиправительственных плакатов — решение чисто светского плана, как будто он улаживает таким образом отношения с друзьями, которые оценили бы его за смелость гораздо выше, чем если бы он нашел подлинные ответы на великие вопросы. Пытаясь рассмотреть вопрос с точки зрения преходящего и абсолютного, он чувствовал, что ошибался в первом случае и был прав во втором. Плохо, когда человек отказывается от борьбы за независимость Алжира или не выступает против антисемитизма или расизма. Но хорошо, когда человек отказывается от быстродействующего дурмана коллективных действий и снова остается наедине с собой перед стаканом горького мате, размышляя над великим вопросом, крутя его, как клубок ниток, конец которого спрятан или, наоборот, из которого торчат четыре или пять концов.
Да, это, несомненно, хорошо, однако надо признать, с таким характером, как у него, можно попрать любую диалектику действия наподобие «Бхагавадгиты».[649] Заваривать ли мате самому, или пусть его заваривает Мага — тут нет никаких сомнений. Но все остальное распадалось на части и тут же получало противоречивые толкования: с пассивным характером сочеталась наибольшая свобода и раскрепощенность, праздное отсутствие принципов и убеждений заставляло его острее чувствовать, что у любой жизни есть своя ось (то, за что его называли флюгером), и если он из-за лени отказывался от чего-то, то он мог заполнить пустоту новым содержанием, которое свободно могло выбирать его сознание или его инстинкт, без всяких ограничений, более экуменически, скажем так.
«Более экуменически», — аккуратно записал Оливейра.
Кроме того, какова подлинная мораль всякого действия? Общественная деятельность, например, профсоюзов с лихвой оправдывалась историческими условиями. Счастливы те, кто жил и упокоился под сенью истории. В самопожертвовании почти всегда проявляются религиозные корни. Счастливы те, кто возлюбил ближнего своего как самого себя. В любом случае Оливейра отвергал этот уход от себя самого, это наступление на чужой загон из прекрасных побуждений, онтологический бумеранг, призванный в результате всего обогатить того, кто его запускает, придать ему больше человечности, больше святости. Святым всегда становятся за счет кого-то другого и пр. Он ничего не имел против действия как такового, но его останавливало то, что в собственные поступки он не верил. Он опасался предательства, стоит ему только начать расклеивать плакаты на улице или заняться еще какой-нибудь общественной деятельностью; предательства под видом работы, которая приносит удовлетворение, под видом радостей повседневной жизни, под видом спокойной совести и чувства исполненного долга. Он достаточно знавал коммунистов в Буэнос-Айресе и в Париже, способных на любые низости, которые они оправдывали своей «борьбой», чтобы, например, вскочить посреди ужина и бежать на какое-нибудь собрание или на выполнение очередного задания. Общественная деятельность таких людей сильно смахивала на некое алиби, как, например, дети, которые служат алиби для своих матерей, чтобы не надо было заниматься чем-нибудь стоящим в этой жизни, или как эрудиция с очками на носу служит для того, чтобы не вникать в события соседнего квартала, где в тюрьмах гильотинируют людей, которые не должны быть гильотинированы. Псевдодеятельность всегда была напоказ, и за ней всегда следовали уважение, почет и конная статуя. Ее легко было примерить, как пару ботинок, можно было даже заслужить похвалу («в конце концов, было бы лучше, если бы алжирцы получили независимость и если бы мы все им в этом немного помогли», — подумал Оливейра); предательство было в другом, это как отказ от центра, перемещение на периферию, чудесное ощущение братства с другими людьми, которые заняты тем же делом. Но там, где человек определенного склада мог стать героем, Оливейра был обречен на самую худшую комедию, и он знал это. Так что лучше было взять на себя грех упущения, чем допущения. Быть актером означает не замечать зрительный зал, а он, похоже, родился, чтобы быть зрителем в первом ряду. «Плохо то, — подумал Оливейра, — что я пытаюсь быть зрителем активным, отсюда все и происходит».
Хактивный сритель. Надо бы проаналисироватъ этот вопрос повнимательнее. Иногда бывало так, что, глядя на картину какого-нибудь художника, на какую-нибудь женщину или читая чьи-нибудь стихи, он проникался надеждой, что когда-нибудь достигнет пространства, где не будет внушать себе такого отвращения и недоверия. Его немалым преимуществом было то, что его худшие недостатки помогали ему не то чтобы в выборе пути, но в поисках опорной точки для этого выбора. «Моя сила в моей слабости, — подумал Оливейра. — Великие решения я всегда принимал в виде замаскированного бегства». Большинство его начинаний (его наченаний) заканчивались not with a bang but a whimper;[650] все эти bang-обрушения были всего лишь укусами загнанной в угол крысы, только и всего. Все медленно прокручивалось, разрешаясь во времени, в пространстве или в поступках как-то само по себе, без применения усилий, от усталости — так заканчивались все его любовные истории — или от постепенного угасания, как бывает, когда начинаешь реже навещать друга, меньше читаешь какого-нибудь поэта, меньше заходишь в кафе, дозируя надвигающуюся пустоту, чтоб себя не так жалко было.