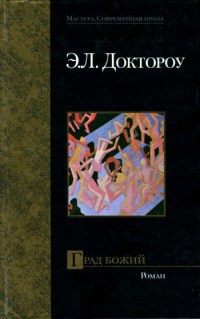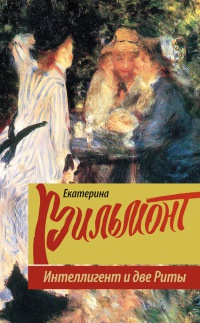Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Разбегайся, честной народ!
Далеко отлетел Полкан; покорливо притих в сугробе, поскуливал и, похоже, выискивал глазами среди людей любезного своего хозяина.
А они, тяжело дыша, запыхавшиеся, взмокшие, тесной кучкой склонились над ним, однако хорошенько не знали, что делать, как помочь. Стограмм дрожкими пальцами принялся расстёгивать на старике рубашку, но у него не получалось. Пелифанов оттолкнул скотника:
– Разрывай, дурило: задыхается дед Иван! А ну, уйди… алкаш трясорукий! – И располосовал на груди старика рубашку. – Качай, кто умеет, грудь – помирает мужик! Спасайте! Чего замерли? Эх, вы, недотёпы деревенкие, неумехи криворукие! Сам-то я если нажму на грудь старика, так, чего доброго, поломаю его старенькие косточки. Ну, чего остолбенели? Спасаем, спасаем! Помрёт ведь!
Грозная бригадир Селиванова отпихнула Пелифанова:
– Чего, идол, орёшь? Сам-то что, трезвенник, у самого-то какие руки? Пьянчуга ты забубенный, и не руки у тебя – грабли. Лампочку толком не умеешь вкрутить, а ещё электриком называешься! Катись отсюда!.. Люди, – обратилась она ко всем, – нести на руках надо нашего дедка вниз. Пока за фельдшером сгоняем – истинно: помрёт. Нельзя, чтоб он помер, никак нельзя. Берём да – полегоньку потопали. Тяжко будет, да выбора нету. Ну, взяли!
Только зашевелили старика, пытаясь поднять на множество протянутых к нему рук, – очнулся он, застонал. Приоткрыл отяжелённые, вычерненные смертью веки:
– А-а, тут вы. Думал, не пособите, а – вон оно чего… Спасибо, спасибо… Халупёшка догорела? Дайте гляну разочек: верно, не свидеться мне боле с этим благодатным местечком.
Расступились новопашенцы, Селиванова бережно приподняла голову старика. Глянул он и крепко – на сколько мог – зажмурился. Халупёшки его уже не было совсем, а дыбились на чёрной земле чёрные останки, как кости. Ещё дымили и тлели обугленные доски и брёвна, торчала стволом дерева без кроны печная труба и, будто ёрничая над стариком, поддымливала в небеса.
– Кто из вас подпалил? Скажите честно – всё пойму.
– Не мы, дед Иван, – склонился над стариком Стограмм. – А вон тот охламон, Витька… Эй, сопляк, подь сюда! – велел он подростку, скулившему за спинами взрослых.
Мальчишка с покорно склонённой головой подбрёл и завыл жалостливо, громко.
Стограмм прикрикнул:
– Не нюнь, будь мужиком! Смотри нам в глаза и говори: ты подпалил? Ну!
Но мальчишка заголосил, завопил, ожесточённо натирая глаза кулаками.
– У-у, на жалость давишь, притворщик, помалкиваешь, пакостник! – замахнулся на Витьку скотник, но не ударил, лишь по затылку скользнул ладонью и скинул на снег шапку. – Коли молчишь, так я расскажу… Увидел я, дед Иван, пожар на горе и – скачками сюда. А на меня с крутизны, вон с той, что за березняком, этот обормот катится. Схватил я его за шиворот… Я хотя и пьяница горький, а голова у меня варит! – подмигнул он собравшимся. – Мне следователем работать бы, а не скотником… ну да ладно!
– Ты, Григорий, башковитый мужик, я знаю, – тщился улыбнуться ему старик, но губы уже затвердели. – Ты ещё сможешь зажить по-человечьи – какие твои годы.
– Да, дед Иван, надо пожить, всю водку как не пей – не перепьёшь… Так вот: сцапал я этого сорванца за воротник и напрямки спросил, видит Бог, что наугад: «Ты поджёг? Говори, а то отколошмачу!» Ну и подивился же я, когда он занюнил: «Я, дядя Гриша, поджёг». Что да как, спрашиваю. А вот оно как вышло: шарамыжничал он возле Новопашенного да набрёл на избушку. Стук в оконце – молчок. Только пёс брешет. Подождал, осмотрелся – ни души. Выдавил стекло да нырнул внутрь. То да сё, а потом ухватился за керосиновую лампу: клёвая игрушка! Нечаянно опрокинул, керосин разлился по столу и полу, а в руках – зажжённая спичка. Ка-ак полыхнуло! Руки опалил, но выпрыгнул в окно. С испугу не туда рванул, поблудил по лесу. Потом выбрался на откос и – хоп в мои руки.
Старик попросил, чтобы к нему подвели мальчишку. Нашарил в кармане карамельку в потёртом фантике, протянул её Витьке:
– На, малец. Прости, другого гостинца нету. Возьми… не бойся. А халупёшку спалил – спасибо, родимый: давно было пора. Понять я не мог своими засохшими мозгами – помеха она мне. От людей, как заяц, бежал, а Бог, видишь ли, по-своему постановил: с людями мыкался всю жизнь, с людями рядышком и помирай. И нечего чудить… правильно, земляки? Вот до чего сейчас додумался. Э-э, чего уж там, честно скажу, люди добрые: крепко хотел я к вам, поближе, да сердце супротивничало. А вот глядите – судьба подмогла, съединила нас. Да, да, сам Бог привёл на мою гору этого мальчонку. Спасибо, родненький… не плачь… Всем вам, земляки, поклон низкий… Ольгу бы напоследок увидеть… настрадалась она по моей милости. Вы ей при случае по хозяйству пособите.
Старик сказал много, очень много – устал, обессилел, стал задыхаться. Отвёл глаза от земляков, посмотрел в ясное небо и почудилось ему – поднимается он. Взносит его выше и выше какая-то неведомая, но заботливая сила, синевой небесной пеленает его, будто младенца. И уже настолько высоко старик, и настолько плотно окутан он, что не слышит и не видит людей.
– Помираю, люди, поди, – то ли сказал, то ли подумал он и вдруг, то ли в яви, то ли во сне, увидел Васю Хвостова; тот выглянул из-за облака и поманил старика к себе.
А что же люди? Они бережно несли старика на руках. Кто-то говорил: дышит ещё, кто-то шептал соседу по плечу: преставился, что ли? И – если умер или не сегодня завтра умрёт – не могли они не почувствовать, не могли они не осознать: как же им дальше без него жить? Кто теперь плесканёт по запьяневшей совести холодными, но страстными словами правды? Не всякий мог, а Степаныч мог! Кто теперь, если что, первым выйдет на дорогу, не щадя своей жизни, чтобы остановить супостата, едущего убивать всеми любимый сосновый бор или с каким-нибудь другим сумасбродным намерением? Кто теперь не испугается силача и богатея председателя акционерного общества и скажет ему: прочь, злыдень?! Неужели некому? Неужели гнить Новопашенному в своих извечных пороках, а лекарь умер или вот-вот умрёт и – не бывать другому?
Чистые и порочные, хмельные и трезвые, старые и молодые шли рядом с умершим или умирающим стариком, но все они были новопашенцами, в которых затеплились осколки души старика, разбившейся о них, людскую скалу.
Молча, скорбно брели они по вязкому, препятствовавшему продвигаться снегу. Им очень тяжело, им очень неудобно спускать старика с горы, но они, несомненно, понимали: ничего лучшего уже не могут для него сделать, кроме как вернуть его в родное село, занести в родное жилище к жене. Лишь только каким-то чудом взобравшаяся на гору сгорбленная, иссохшая Фёкла услужливо поддерживала руку старика, которая сваливалась к снегу.
А что же в поднебесье тем временем?
– Здорово, Василёк, – поприветствовал старик закадычного дружка своей молодости. – Как живёшь-можешь?
– Я и тут, Ваня, летаю. Хочешь спробовать? – откликнулся Вася, всё такой же молодой, как и много лет назад, всё такой же кучерявенький, словно барашек, всё с такой же умилявшей односельчан мечтательной задумчивостью в глазах.