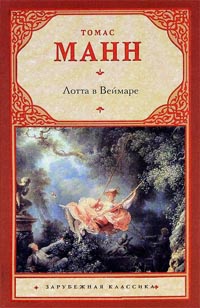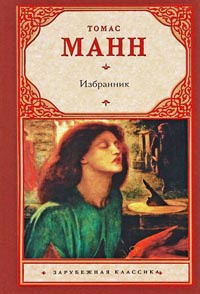Книга Будденброки - Томас Манн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Иду, иду! — отозвался сенатор. — Что у вас там такое? А ну, давайте-ка опустим ее. — Он прислонил картину к стене возле рояля и, окруженный всею семьею, остановился перед ней.
В массивной резной раме из орехового дерева красовались под стеклом портреты четырех владельцев фирмы «Иоганн Будденброк»; под каждым из них золотыми буквами — имя и соответствующие даты. Портрет Иоганна Будденброка, основателя фирмы, был списан со старинного изображения масляными красками; то был рослый, важный человек, с поджатыми губами и волевым взглядом, устремленным поверх пышного жабо. Рядом с ним улыбалось широкое, веселое лицо Иоганна Будденброка, закадычного друга Жан-Жака Гофштеде. Консул Иоганн Будденброк, с подбородком, упиравшимся в высокие стоячие воротнички, большим ртом, окруженным морщинками, и крупным горбатым носом, смотрел на зрителя одухотворенными, фанатическими глазами. Последним в ряду был Томас Будденброк, запечатленный в несколько более молодом возрасте. Стилизованный золотой колос обвивал все четыре портрета, под которыми стояли знаменательные даты 1768–1868. Всю композицию венчала надпись, высокие готические буквы которой воспроизводили почерк того, кто завещал сие изречение потомству: «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам твоим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя».
Заложив руки за спину, сенатор долго смотрел на портреты.
— О да, — проговорил он наконец не без иронии, — ночной покой — великое дело! — И, обернувшись к своим, добавил уже вполне серьезно, хотя, может быть, несколько торопливо: — Большое вам спасибо, дорогие! Прекрасный и весьма знаменательный подарок. Где бы нам его повесить? В моем кабинете?
— Да, Том! Над письменным столом в твоем кабинете, — отвечала г-жа Перманедер, обнимая брата; затем она потянула его к окну и указала на улицу.
Под ярко-синим летним небом реяли двухцветные флаги — вдоль всей Фишергрубе, от Брейтенштрассе до гавани, где, подняв вымпелы в честь хозяина, стояли «Вулленвевер» и «Фридерика Эвердик».
— И так повсюду, Том, — сказала г-жа Перманедер; голос ее дрогнул. — Я уже успела пройтись сегодня по городу. Хагенштремы тоже вывесили флаги! Впрочем, что им еще оставалось? Я бы им все стекла повыбила…
Томас улыбнулся, и сестра потащила его обратно к столу.
— Вот телеграммы, Том! Самые первые! Конечно, личные, от родственников. От клиентов поступают прямо в контору.
Они распечатали несколько депеш: от гамбургской родни, от франкфуртской, от г-на Арнольдсена и его близких в Амстердаме, от Юргена Крегера из Висмара. Вдруг г-жа Перманедер вспыхнула.
— А все-таки он, по-своему, неплохой человек! — сказала она, передавая брату только что вскрытую телеграмму: на ней стояла подпись «Перманедер».
— А время-то идет и идет! — заметил сенатор, щелкнув крышкой часов. — Я хочу чаю. Хорошо бы вы составили мне компанию. Позднее начнется такая кутерьма…
Однако жена, по знаку, поданному ей Идой Юнгман, остановила его.
— Минутку, Томас… Ганно сейчас надо будет идти на урок, а он хотел бы прочитать тебе стихотворение. Подойди ближе, Ганно, и постарайся представить себе, что здесь никого нет. Не волнуйся!
Маленькому Иоганну даже на каникулах, — а июль всегда был каникулярным временем, — приходилось брать уроки по арифметике, чтобы не отстать от класса. В предместье св. Гертруды, в душной комнатке, где не слишком-то хорошо пахло, его уже дожидался рыжебородый человек с грязными ногтями, старавшийся вдолбить ему злосчастную таблицу умножения. Но прежде, чем идти к нему, надлежало прочитать папе стихотворение, то самое, которое он так прилежно разучивал с Идой на своем «балконе».
Ганно стоял, прислонившись к роялю, в копенгагенском матросском костюмчике с широким полотняным воротником, с белой вставкой, с галстуком, завязанным морским узлом, скрестив тонкие ноги и слегка склонившись набок, — в позе робкой и грациозной. Недели три назад его коротко обстригли, так как в школе уже не только мальчики, но и учителя стали смеяться над его длинными волосами. Но они все равно и теперь ложились мягкими волнами надо лбом и на прозрачных висках. Веки его были опущены, так что длинные темные ресницы скрывали голубоватые тени под глазами. Плотно сжатые губы мальчика слегка подергивались.
Ганно наперед знал, что сейчас произойдет. Он неминуемо расплачется, не сумеет дочитать стихотворения, от которого у него сжимается сердце не меньше, чем по воскресеньям, когда г-н Пфюль, органист Мариенкирхе, играет как-то особенно торжественно и проникновенно, — расплачется, как всегда, когда от него требуют, чтобы он «показал себя», когда его экзаменуют или испытывают его способности и присутствие духа, чем так любит заниматься папа. И зачем только мама просила его не волноваться! Она хотела его ободрить, а вышло еще хуже. Он это ясно чувствовал. Теперь они стоят и смотрят на него. Ждут, боясь, что он заплачет… А раз так, ну можно ли не заплакать? Он поднял ресницы, стараясь встретиться глазами с Идой; она теребила цепочку на груди и, грустно улыбаясь, поощрительно кивала ему головой. Им овладело неодолимое желание прижаться к ней, дать ей увести себя, не слышать ничего, кроме ее низкого голоса, успокоительно бормочущего: «Ну, полно, полно, мой мальчик, бог с ним, с этим стихотворением…»
— Итак, сынок, я тебя слушаю, — сказал сенатор; усевшись в кресло у стола, он ждал. Он не улыбался — о нет! — он никогда не улыбался в подобных случаях. Вскинув одну бровь, он хмуро оглядывал фигурку маленького Иоганна испытующим, более того — холодным взглядом.
Ганно выпрямился, коснулся рукой блестящей крышки рояля, робко обвел глазами собравшихся и, несколько ободренный нежностью, светившейся в устремленных на него глазах бабушки и тети Тони, произнес тихим, немножко глуховатым голосом:
— Уланд[111], «Воскресная песнь пастуха».
— Э-э, друг мой! Это ни на что не похоже! — воскликнул сенатор. — Руки ты зачем-то сложил на животе, навалился на рояль. Прежде всего — стой свободно! Говори свободно! Поди-ка встань вон там, между портьерами! Голову выше! Опусти руки!
Ганно встал на пороге малой гостиной и опустил руки. Он послушно поднял голову, но ресницы его остались опущенными, так что глаз не было видно. Наверно, в них уже стояли слезы.
Господень нынче день, —
проговорил он совсем тихо, отчего еще резче прозвучал голос отца, прервавший его:
— Выступление начинают с поклона, сын мой! И говорить следует гораздо громче! А ну, еще раз! «Воскресная песнь пастуха»…
Это было уже жестоко, и сенатор прекрасно знал, что отнимает у мальчика остаток сил и самообладания. Но надо, чтобы он умел постоять за себя! Не давал бы сбить себя с толку! Сохранял бы мужество и твердость духа.
— «Воскресная песнь пастуха», — неумолимо, хотя и с оттенком поощрения, повторил он.