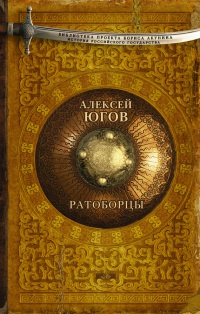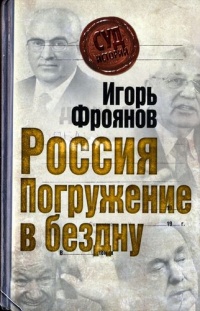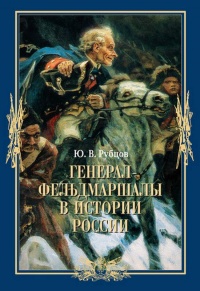Книга Пекинский узел - Олег Геннадьевич Игнатьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Попов хлопнул в ладоши.
— Любят барышни конфеты, шоколад и монпансье!
Войлочная куртка показалась ему лишней, и он сбросил её с плеч.
Из соломенной кошёлки выпрастывался петух и норовил клюнуть прохожих. Голозадая мартышка строила Попову глазки. Он погрозил ей пальцем и услышал хихиканье. Лукавое искусство обольщения было у неё врождённым.
Попов уже пристал, было, к шарманщику с расспросами о «короле нищих», как к ним подошёл знакомый албазинец с дрессированным медведем. Не говоря ни слова, он приставил к их опустошённой четверти свою полнёхонькую, сел рядышком и заговорил о войне.
— Худой поп свенчает, и хорошему не развенчать, — он сбил сургуч с принесённой им посудины, передал её шарманщику.
— Давай, помянем.
— Кого?
— Прожитый день.
Медведь улёгся рядом. Попов опасливо покосился на него, слегка отодвинулся. Шарманщик наполнил стакан, протянул албазинцу.
— Со встречей!
Тот степенно выпил и куснул пряник.
— Дурак всегда виновен.
— Есть такие, — ухмыльнулся шарманщик и с хитринкой глянул на Попова. — Ходят пятками вперёд, коленками наружу.
Чтоб сидеть, никому не мешать, они перебрались под стену, развели костерок.
— Когда человека душат, у него кровь из глаз течёт, — загнул палец на руке албазинец. У повешенного — язык набок. Это об чём говорит? — посмотрел он мрачными глазами на собутыльников и сам же ответил. — А это говорит о том, что смерть любит языкатых. Немые живут дольше.
— Вот и я об том же, — трезвым голосом сказал шарманщик. — Кто разобрался в этом мире, разберётся и в загробном. Яму в два прыжка не перепрыгнешь.
Албазинец пристроил над огнём жестяной чайник. Медведь прикрыл глаза и положил на морду лапу. Подбежали тощие замурзанные китайчата, стали просить денег. Их босые пятки выбивали дробь.
— Хорошо тому, кто ничего не имеет, — выгреб из кармана мелочёвку Попов и уставился в огонь. — Кроме своей тени.
Китайчата с радостными воплями помчались прочь. Один подставил ножку другому, подхватил выпавшую из его пригоршни монетку, и с гиканьем понёсся дальше.
— Если у тебя есть тень и больше ничего, кроме тени твоей, — сказал албазинец, — благодари Всевышнего за счастье созерцать её. — Он стряхнул со своего армяка хлебные крошки и добавил. — Завтра и этого может не быть.
— Вполне, — смутно соображая, ответил Попов. — Козыри разложены, а король припрятан.
Он не мог отделаться от чувства, что за ним давно следят, прячутся неподалёку. Где-то рядом. Может, люди Су Шуня, может, «короля нищих». Китайцы не любят сердиться, но коль разойдутся, их не остановишь. Тем более, теперь, когда идёт война и все озлоблены донельзя. Рушатся дома, распадаются семьи. Люди теряют себя, свой человеческий облик.
— Если тебя грабят, — обращался к нему шарманщик и подавал стакан с домашней водкой, — не сопротивляйся. Не деньги нас, а мы должны закапывать их в землю.
— Тот, кто голоден, — проглотил водку Попов, — опасности не чует. А я чую!..
— Что? — подался к нему албазинец.
— Не скажу!
— Вот тебе и "буки, веди", — рассмеялся албазинец и повалился на медведя. Тот недовольно заворчал, но продолжал лежать. — Отглаголил и добро!
Попов помог албазинцу подняться, хотя его и самого уже сильно шатало. Тянуло улечься на землю или, что лучше, на того же медведя. К тому же, он не знал, что ему делать? Убираться восвояси или ждать, когда шарманщик всё же сообщит секретный адрес "короля"? А может, и зарежет — тёмный человек. Ткнёт шило под лопатку — и каюк.
— Судьи загробного мира знают всю правду о нас, — заговорил албазинец и судорожно скривил рот. — Поэтому молчи, всю жизнь молчи. Ни-ни, — он погрозил пальцем. — Смерть носит в своём чреве мёртвых.
Попов не перечил. Отец Гурий как-то говорил, что между жизнью и смертью есть тонюсенькая, самая, что ни на есть, невидимая щель, световой зазор, в который и стремятся души. Не зря сказал Христос: "Входите тесными вратами».
Чайник засвистел, задребезжал крышкой.
Попов всматривался в полыхающий огонь, о чём-то думал, что-то вспоминал... но всё шло мимо, не цепляло и не грело. Жар шёл от костра, другого жара он в себе не ощущал…
…дьякон, мотнув подрясником повернул к церкви Успения Богородицы, а Попов юркнул в переулок, перелез через забор, пробежал по саду, взобрался на кривой вяз, с него спрыгнул на крышу, заскользил по мокрой черепице, приземлился, затих; перемахнул через ограду, протиснулся между двумя домами, отбился от злобного пса, и, как ни в чём ни бывало, пошёл на "птичий рынок".
Калитка сорвана — валяется в грязи.
Шарманщик был на месте. Сыпал табак в четвертушку вчерашней листовки. Албазинца не было. Медведя тоже.
Из головы Попова не выходили слова дьякона: "Когда мы не знаем, что нам делать, радоваться или огорчаться, лучше радоваться — так Богу угоднее, живёшь, значит, радуйся. А огорчения, по большей части, нами же и накликаются. Чего боишься, то обычно и случается. Нет, надо радоваться, думать о хорошем".
— Непременно, — сказал вслух Попов и подумал, что небо зла не терпит. Другое дело, что земное время не совпадает с небесным, а точнее, у Бога его просто нет. Нет времени у Бога. Наказание приходит, но люди не знают, за что. Он слабо поднялся, упёрся лопатками в стену, попробовал шагнуть — мотнуло вбок. Насилу удержался. Не упал. В глазах темнело... Попов схватил «что-то» рукой и это «что-то» оказалось пастью каменного тигра.
В потёмках выбрался наружу. Вновь упал. Почуял топот ног; работая локтями, откатился в тёмные кусты, пропал, затих... Услышал голоса, зевластый хрип. «Найдут, — мелькнуло в голове, — хана». Нет, пробежали мимо. Он осторожно встал — и рухнул навзничь.
Утром, обхватив голову руками, он слушал, что говорит шарманщик. Оказывается, когда всю водку выпили, и албазинец увёл медведя, Попов стал порываться идти в ночь: искать "короля нищих". Видя, что шарманщик не идёт, потребовал кричать частушки — русские, срамные. Не понимал, не слышал никого, но был весёлый. Плясал "камаринского", свистал соловьём и ходил на руках. Целовал какую-то старуху и обещал на ней жениться.
Глава II
Шарманщик жил в кособокой хибаре из плетёной лозы, обмазанной глиной и подпёртой со стороны улицы стволом белого тополя, поваленного бурей. Выйдя во двор, Попов обнажился по пояс, опрокинул на себя ведро колодезной воды,