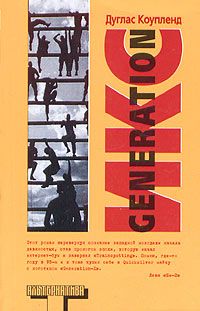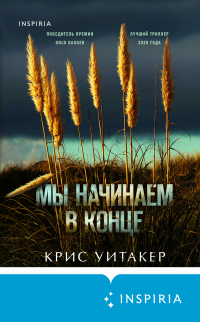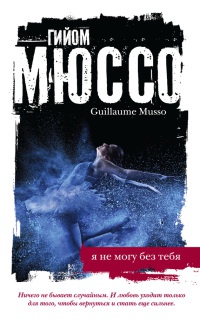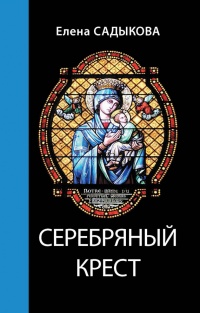Книга Лавочка закрывается - Джозеф Хеллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У нас сердце обливалось кровью, когда мы смотрели на фотографии Майкла. Гленда ничего не сказала, когда я их убрал, положив в шкафчик вместе с лежавшими там ее фотографиями — капитана школьной команды болельщиков, и ее отца — продавца сельскохозяйственных продуктов. В тот же шкафчик, где лежала моя медаль ВВС, мои крылышки стрелка, сержантские нашивки, старая фотография, на которой мы со Сноуденом и Биллом Найтом сидим на штабеле бомб, а Йоссарян смотрит с заднего плана, и еще там лежала совсем уж старая фотография моего отца с противогазом и в каске времен первой мировой.
Прошло совсем немного времени, и Гленда, которая никогда не болела, начала испытывать какие-то неясные симптомы, которые никак не поддавались диагностированию — синдром Рейтера, вирус Эпстейна-Барра, колебания химического состава крови, болезнь Лайма, синдром хронической усталости, онемение и зуд конечностей и, наконец, расстройство пищеварения и недомогание какого-то уж слишком специфического свойства.
Я познакомился с Тимером через Лю, который посоветовал нам, по крайней мере, проконсультироваться с онкологом, у которого он лечился в связи с болезнью Ходжкина. Тимер просмотрел данные анализов и согласился. Первичное образование на яичниках перестало быть главной проблемой. Образования в других местах могли оказаться посерьезнее.
— Все будет зависеть, — уклончиво заключил он во время первого нашего разговора, — от конкретной биологии ваших опухолей. К сожалению, о природе опухолей яичников можно судить, только когда они начали распространяться. По моему мнению, мы…
— Год у меня есть? — неожиданно спросила Гленда.
— Год? — запнулся Тимер, вид у него был смущенный.
— Я имею в виду хороший год, доктор. Вы можете мне это обещать?
— Я вам это не могу обещать, — сказал Тимер с мрачным сожалением, которое, как мы скоро узнали, было для него типично.
Гленда, задавшая свой вопрос с наигранной, беспечной уверенностью, была потрясена его ответом.
— А шесть месяцев вы мне можете обещать? — голос ее стал слабее. — Шесть хороших месяцев.
— Нет, я вам не могу это обещать.
Она выдавила на лице улыбку.
— Три?
— Это не я решаю.
— О меньшем я у вас не буду спрашивать.
— Я могу гарантировать один, и он не будет таким уж хорошим. Но особых болей у вас не будет. За этим нам придется присмотреть.
— Сэм, — сказала Гленда, тяжело вздохнув. — Привези девочек домой. Нам, пожалуй, нужно составить кой-какие планы.
Она умерла неожиданно, в больнице, месяц спустя, от закупорки коронарных сосудов в процессе приема нового экспериментального лекарства, но я всегда подозревал, что ее смерть стала следствием некоего тайного акта милосердия, о котором мне ничего не сообщили. Йоссарян, который хорошо знаком с Тимером, считает это вполне вероятным.
Йоссарян, крупный, с брюшком, с седеющими волосами, оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Я тоже был не похож на того, кого он предполагал увидеть. Он скорее рисовал себе какого-нибудь адвоката или профессора. Я удивился, узнав, что он связан с Милоу Миндербиндером; он не удостоил меня похвал за мою рекламную работу в «Тайм». И все же мы пришли к согласию — замечательно было, что мы, благодаря удаче и естественному отбору, умудрились выжить и даже процветать.
Казалось вполне логичным, что мы оба отдали дань преподаванию, а потом занялись рекламой и информацией, где и платили получше, и люди были поинтереснее; логичным казалось и то, что мы оба пробовали себя в художественной прозе, которая возвысила бы нас до уровня элиты — знаменитостей и богачей, — а еще пытались писать пьесы и киносценарии.
— Теперь нам нравится роскошь и мы называем ее безопасностью, — грустно заметил он. — Сэмюэль, старея, мы всегда рискуем превратиться в людей того рода, который презирали в дни нашей молодости. Как ты себе представлял меня до нашей встречи?
— Капитан ВВС, которому все еще третий десяток, он немного чокнутый, но всегда знает, что делает.
— И безработный? — ответил он со смехом. — У нас не такой уж большой выбор, верно?
— Как-то в Риме я зашел в комнату, которую делил со Сноуденом во время одного из наших увольнений, и увидел тебя на той пухленькой горничной, которая ложилась под любого, кто ее об этом просил, и всегда носила какие-то вылинявшие трусики.
— Я помню эту горничную. Я их всех помню. Она была миленькая. Ты когда-нибудь перестаешь задавать себе вопрос — а как она выглядит теперь? Я представляю это себе без труда, только этим и занят. Я никогда не ошибаюсь. Но я не умею заглядывать в прошлое. Я не могу посмотреть на женщину и сказать, как она выглядела в молодости. Мне гораздо легче предсказывать будущее, чем прошлое. А тебе? Я слишком много говорю?
— Мне кажется, что твоя последняя сентенция похожа на то, что говорит Тимер.
А еще мне показалось, что речь его полна прежнего пыла, и он был рад услышать это.
Вообще-то они с Лю не очень понравились друг другу. Я чувствовал, как каждый из них спрашивает себя: «Чего это он в нем нашел?» В этих больничных беседах есть место только для одной души общества, и Лю при росте шесть футов, а весе, упавшем ниже ста пятидесяти фунтов, трудно было строить из себя этакого экстраверта. Лю тактично подстраивался под Йоссаряна и его более уравновешенных посетителей, вроде Патрика Бича, широко известной в обществе Оливии Максон со всеми ее смехотворными радостями по поводу двух тонн икры и даже под бойкую блондинку и хорошенькую медицинскую сестру.
Часто мы проводили вечера на психиатрическом отделении у Тимера за разговорами о безумии, демократии, неодарвинизме и бессмертии, при этом присутствовали и другие больные, и все они были сильно накачаны лекарствами и бесстрастно, без всякого интереса смотрели на нас, словно коровы с отвисшими челюстями, и ждали, когда мы наконец придем к каким-нибудь выводам, и в этом тоже было какое-то сумасшествие. Жить или не жить — такой вопрос все еще стоял перед Йоссаряном, и его ничуть не успокаивало, что он уже и так прожил гораздо больше, чем рассчитывал, и, вероятно, согласно теории происхождения видов и благодаря ДНК, переданной его детям, будет, с генетической точки зрения, продолжать долго жить после своей смерти.
— Продолжать жизнь только с генетической точки зрения — совсем не то, что мне нужно, Деннис, и вы это знаете. Введите в меня ген, который остановит работу тех генов, что делают меня старее. Я хочу навсегда остаться таким, какой я сегодня.
Тимера при общении с людьми преследовала безумная мысль, почерпнутая им в лаборатории: он знал, что клетки метастаза генетически гораздо более совершенны, чем первоначальная опухоль, они в громадной степени более живучи, ловки и разрушительны. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как считать их стоящими на более высокой ступени эволюционного развития и постоянно задавать себе вопрос — не является ли его врачебное вмешательство от имени пациента преступлением против природы, незваным вторжением в уравновешивающие друг друга потоки биологической жизни, которая, как он видел, существует в гармоничном согласии повсюду, где есть живые организмы. И, в конечном счете, он был вынужден спрашивать себя — а что уж такого благородного есть в человечестве, что такого основополагающего?