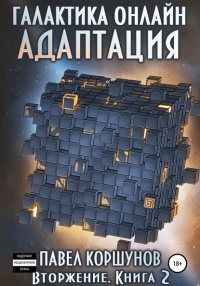Книга Шестая книга судьбы - Олег Курылев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Что же делать? Может быть, сразу подготовить прошение?
На это вопрос можно было и не отвечать.
— Это суд высшей инстанции, профессор. Любая апелляция по его решению не только запрещена, но и наказуема.
…Эрна опустила глаза. Зачем она писала эти листовки?
Уж конечно, не для того, чтобы кого-то к чему-то призвать. Она прекрасно понимала, что люди пройдут мимо и единственное, чего она добьется, это разговоры по углам и на кухнях да беготня полицейских. Никто не остановится возле ее язвительной прокламации и не воскликнет: «А ведь и правда, черт возьми, обещал!»
Вспомнив рассказ Софи Шолль о примитивистах и их манере самовыражения, Эрна решила поначалу избрать именно такой стиль для своего протеста. Никаких рассуждений, никакой аргументации. Ведь еще кто-то из древних точно подметил: очевидное умаляется доказательствами. Свежевыпавший снег — белый. Начни аргументировать это утверждение, доказывать его с жаром и многословием, и рискуешь получить обратный результат: а так ли уж верно, что снег белый, если для того, чтобы убедить в этом, требуется столько умных слов?
Она написала: «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ГИТЛЕР!», повесила листок на стену и долго на него смотрела. Нет, в этой фразе чувствуется крик отчаяния. Это передастся читающим, и они придут к простому выводу: у человека большое горе, и он просто сломался. Стоит ли обращать внимание на истерику. Нет, текст должен быть спокойным, внушать ощущение продуманности.
Эрна скомкала свой первый отвергнутый вариант. На чистом листе она нарисовала вертикальную линию и две косые подпорки с обеих ее сторон. Слева она пририсовала букву «А», справа — «Н». Получились инициалы Гитлера с заключенной между ними руной смерти. Она снова повесила листок на стену. Опять не то. Слишком заумно, не листовка, а какая-то шарада из детского журнала. Да еще с не очень понятным смыслом.
Она снова взяла чистый лист и через несколько минут сочинила третий, окончательный вариант.
И вот теперь сидит и думает, зачем она это сделала. Неужели мало примера «Белой розы», наглядно показавшего всем, что подвигнуть кого-либо на сопротивление ни словом, ни своей смертью в этой стране невозможно. Ты даже не станешь в их глазах героем, а будешь скорее глупцом, совершенно не ориентирующимся в реалиях жизни.
Теперь Эрна понимала, что поступила глупо. И не просто глупо, а чудовищно эгоистично, прежде всего в отношении отца. Если кто-нибудь потом назовет ее поступок самопожертвованием, он будет не прав, ведь она принесла в жертву не только себя одну.
Обвинитель, назначенный третьим отделом Министерства юстиции, был немногословен Он говорил неторопливо, со знанием дела, снисходительно поглядывая в сторону молодых людей, склонившихся над судейским столом, и обращаясь более к публике, среди которой, это знали все, присутствовали представители партийной прессы. Речь его была вкрадчивой и даже ласковой по тональности, но грубой и примитивной по смыслу. Он всячески старался унизить подсудимую, называл ее бестолковой девицей, намекал, что только благодаря отцу-профессору она смогла закончить университетский курс.
— Вы посмотрите на эту ощипанную курицу. И это та, которая возмутила спокойствие нашего города! Мы, справедливо считающие себя сплоченными перед лицом врага, должны были по замыслам этой особы усомниться в нашем единстве. Какая недоразвитость мышления!
В заключение он от имени всего германского общества потребовал для обвиняемой смертной казни.
После речи прокурора Петер объявил перерыв.
— Мне необходимо принять лекарство. Просто раскалывается голова, — объяснил он свои действия Бергмюллеру.
На самом деле он просто хотел перед защитительной речью адвоката дать всем передышку, чтобы эхо eloquentia camna,[57]как охарактеризовал выступление своего оппонента Глориус, немного поутихло в ушах присутствующих. Ведь сегодня реакция публики на приговор значила больше обычного. Он хорошо помнил слова Фрейслера: судья, оправдавший преступника, подлежит осуждению.
Когда после перерыва секретарь предложил всем садиться, Петер дал слово защите. Глориус запил водой какую-то пилюлю, вышел из-за своего стола и приготовился говорить.
Он прекрасно понимал, что это его последняя защитительная речь Он понимал, что и в этот, последний, раз вряд ли сможет чем-нибудь помочь. Только присутствие во главе судебной коллегии Петера Кристиана давало шанс. Сам же он с радостью променял бы оставшиеся недели своей угасающей жизни на спасение этой молодой женщины. Если бы существовал дьявол и он, Глориус, верил в него, он призвал бы все темные силы этого мира и заключил с ними сделку. Если бы он верил в Бога, то обратил бы слова своего выступления прежде всего к нему. Но Бог отвернулся от Германии много лет назад, а темные силы вот они, вокруг. Они глухи к доводам сострадания, и говорить с ними бессмысленно.
Глориус посмотрел на судью, затем на обвиняемую. Петер, поставив локоть левой руки на стол, закрыл ладонью глаза, отгородившись ото всех. Эрна сидела, опустив голову, а когда поднимала ее, то взглядывала на Петера. Глориус откашлялся. Он решил, как всегда, не изменять своему принципу: gladiator in arena consilium capit[58]и, мысленно посвятив свое последнее выступление им двоим, обратился к трем молодым людям в красных мантиях.
— Господа народные судьи! Ваша честь! Согласно имперским законам вина Эрны Вангер не может быть оспорена. Ее вина, как немки, родившейся в годы унижения, воспитанной в дни нашего возрождения и триумфа и падшей в великий час испытаний, безмерна. Но ее вина — это слабость. Слабость, непозволительная сейчас никому. И все же я квалифицирую это именно как слабость. Да-да, я не могу согласиться с тем, что эта молодая женщина смогла возжелать несчастья своей стране, своей Германии, за которую сражался и погиб ее любимый брат. Поступок Эрны Вангер не злой умысел. Не измена. Это акт отчаяния…
Глориус не мог говорить долго. Существовал жесткий регламент, и следовало уложиться в пятнадцать минут.
— Любит ли она свою родину? Безусловно! Я смею это утверждать, познакомившись с историей этой во всех отношениях добропорядочной семьи. Семьи, которая воспитала воина-сына, добровольцем пошедшего в армию со студенческой скамьи. Еще тогда, в тридцать седьмом году, он понял, что родине в первую очередь потребуются воины, а уж потом врачи, юристы, учителя. Он стал героем Нарвика, а в России, в трудную и трагическую для всех нас зиму, на его шею был повязан Рыцарский Железный крест. И именно благодаря таким людям, как ее брат, Сталинград не стал для нас тогда Кавдинским ущельем!
Любит ли она фюрера? И я снова отвечу вам ДА! Как ребенок в порыве гнева может накричать на мать и, не осознавая, что делает, пожелать ей плохого, с тем чтобы потом броситься к ней и, обхватив ее колени руками, просить в слезах прощения, так и эта бедная девушка в момент отчаяния потеряла душевные ориентиры. Конечно, она не ребенок, а фюрер не ее отец. Поэтому мы и судим ее тяжкий проступок. Нас много, а фюрер один. Мы не можем, какие бы личные трагедии ни сгибали нас, срываться и обвинять в них первого среди немцев. И пусть все произошедшее с Эрной Вангер станет уроком для других. Не зря здесь сидят журналисты. Они опишут эту драму грехопадения в минуты человеческой слабости.