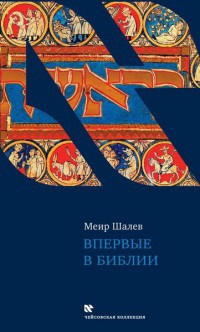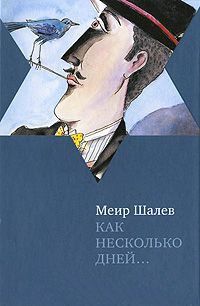Книга Фонтанелла - Меир Шалев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А один раз в год, всегда по еврейскому календарю, приезжали родители летчика, всегда в том же тарахтящем «фарго» автобусной компании «Эгед»[112]— а может быть, «Джи-эм-эс»? всегда стоит проверить память, — который приходил с севера и останавливался у въезда в деревню, и мы всегда ждали их и следили за ними, когда они выходили из автобуса, зная заранее — вначале спустится отец, потом он обернется назад и протянет руку, чтобы поддержать жену. Потом они обернутся оба, слегка кивнут окружающим, которые ответят таким же приветствием, и повернутся к дочери, всё еще маленькой и боящейся ступенек, и протянут две руки — отцовскую и материнскую — двум ее протянутым маленьким ручкам. И, несмотря на утрату, на скорбь и на близость к могиле мертвого сына, их руки слегка приподнимут ее — в надежде, что она улыбнется, а то и засмеется даже, потому что таковы они, родительские руки: им выпадает учиться, как вырыть могилу для сына, поставить ему памятник и, посадить рядом дерево, но есть вещи, для которых им не нужна никакая учеба, и когда к ним протягиваются руки дочери, они знают, как подхватить и поднять, как раньше поднимали и его, на невысокое, надежное место, с которого ему не упасть.
Они ни разу не приняли приглашений зайти в деревню, только отвечали на приветствия и благодарили с улыбкой. И поскольку между их визитами проходил целый год, легко было заметить перемены. С годами ноги девочки удлинялись и ее светлые волосы темнели, а родители уменьшались и ссыхались и уже не приподнимали. Она росла и взрослела, а они старели странным образом: выйдя из автобуса, выглядели точно как в предыдущий приезд, а через два часа, после возвращения с могилы сына, разом старели на год.
* * *
Каждый вечер, возвращаясь с работы, Арон рассказывал Пнине, что происходит снаружи: кто умер, кто родился, кто женился, кто построил новый дом и у кого новоселье, кто посадил сад и кто продал участок. Он расставлял яства Наифы на столе и перед тем, как начать есть, делал свое постоянное заявление:
— Я полон тревоги.
А после еды — Арон ел, Пнина клевала — они выходили из закрытого дома, погулять и подышать воздухом, он — чернея своей хромотой, она — белея своей красотой. И всегда после заката — чтобы солнце не вытемнило голубизну ее глаз, чтобы не высушило кожу на ее губах. Чтобы не загорело белое и не сморщилось гладкое, а гладкое бы и белое не потускнело.
Уже много раз она говорила ему, что ей удобней и приятней оставаться дома, но он по-прежнему заставлял ее выходить.
— Тело должно двигаться, — говорил он, зная, что любой механизм нуждается в движении и в уходе. Чтобы не исчезла гибкость, чтобы не иссякли силы, чтобы красота не ушла с поверхности тела на его дно.
<Связать с тем, что он сказал про свой «траксьон-авант», — что красота должна быть видна, если ты не хочешь, чтобы она выцвела и истерлась.>
Днем деревня покрывается тонким слоем мусора и пыли, узором запахов — цветения, и молока, и удобрений, и пота, — а ночью ветер спит, запахи не разносятся и не смешиваются друг с другом, и путник плывет среди них, как мореплаватель среди островов: здесь царство лютиков, а вот тут господствует жасмин. Тут границы сеновала, здесь теплый запах телят, там окно выплескивает на улицу ароматы спальни, отсюда и досюда — сжатое поле, оттуда и дотуда — цветы на пустыре.
Дневные люди спят, а ночные существа принимаются за свои занятия: водитель молоковоза отправляется в путь, пекарь и сторож заступают на смену, и тревоги тоже выходят на свою ночную работу — строят, камень к камню, сны и кошмары, гонят сон из глаз и покой из сердца. Раскрываются книги воспоминаний, листаются страницы. Картины прошлого просыпаются, потягиваются, ищут свою жертву. В Австралии сейчас зимний день, носит ли Батия накидку? У нас летняя ночь, и Амума замышляет месть, в «те времена» — на своей деревянной веранде, сейчас — у себя в могиле. В огороде моей матери старое пугало зажигает и вешает на себя керосиновую лампу, приманку для суетящихся в ночи насекомых. В постели тети Рахели лежит очередной парень. Крыланы вылетают из своей пещеры, где когда-то мой отец учил пальмахников топографии, а его сын, единственный нормальный человек в семействе Йофе, все это видит и чувствует, лежа с закрытыми глазами и открытой фонтанеллой.
Идет себе Пнина в синеватом сумраке деревенских улиц, пугает людей бледностью своей красоты, приводит в дрожь собак чуждостью своего запаха, а кошки, уже расширившие свои зрачки встречь темноте, ищут спасения от слепящей белизны ее кожи. Идет, видит всех, кто вышел бросить на нее взгляд, но никого не одаряет ни кивком головы, ни тем более улыбкой. Ни стариков, что хотели бы проверить приписываемую ей способность останавливать время. Ни пожилых, желающих испытать, что вытворяют друг с другом память и правда. Ни молодых, родившихся через годы после ее свадьбы. Эти никогда не видели ее при свете дня, но рассказы о ней слышали и вот теперь стоят и глядят, и глаза их за заборами — точно павлиний хвост. Они глядят на нее, а я наблюдаю за ними. Когда люди смотрят на красивую женщину, их веки становятся тяжелыми, горло пересыхает, а фонтанеллы, хоть и закрывшиеся в свое время, все равно дрожат.
И женщины тоже ждут ее появления. Красивые женщины, что хотят бросить вызов и сравнить. Уродливые женщины, мечтающие увидеть красивых побежденными. Девушки и девочки, которые хотят быть, как она, и еще — трогательная и взволнованная компания беременных женщин. Эти приходят не только из нашей деревни, но также из ближайших поселков — из мошавов и кибуцев, из арабских деревень, что на холмах, и есть даже несколько тель-авивских, которые прослышали о ней и приехали на снятом «вэне» с водителем, — и все они поворачиваются в ее сторону животами, как на молитве.
Лунный свет освещает Пнину, Пнина отвечает ему своим сиянием, и звезды, словно навечно закабаленные, низко-низко кланяются своей госпоже, расстилаются перед ней — и гаснут.
— Брось, — сказал Габриэль несколько лет назад, когда я пытался уговорить его выйти со мной на улицу и посмотреть на его мать. — Когда-нибудь она выйдет днем вместо ночи и разом сморщится, растрескается и рассыплется в прах.
<Тут возможна была бы классификация, некое языковое поле. Маленький лужок из слов, означающих красоту.>
Рахель тоже не соглашалась выйти посмотреть на сестру, заявляя, что ее куда больше беспокоит судьба Арона.
— Сколько времени способен человек заботиться, и заботиться, и заботиться, и работать, и работать, и работать, и платить, и платить, и платить? — удивлялась она и добавляла с насмешкой: — И зачем?.. Ни одна женщина, ни один человек, даже твой ребенок, твоя плоть и кровь, — тут она метнула взгляд на меня, — не стоят такого бесконечного труда, такой заботы и такого самоотречения.
Но Арон оставался верен себе. Он, правда, уже сделал все, что обязался сделать, и даже более того, но ведь горечь, что вечно саднит сердце, хочется излить и выразить при каждом подходящем случае, и вот он начинал тяжело вздыхать, переворачивая всем нутро своими вздохами, и огорченно прицокивать языком, сопровождая этим цоканьем очередной из серии своих готовых модулей «не для того», которые сразу же вошли в архив наших семейных выражений, эту «кость Кювье» всего семейства Йофе: «Не для того мы вернулись из галута… Не для того мы сражались в Войне за независимость… Не для того мы взялись учить новоприбывших труду на земле…»