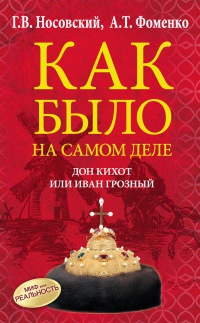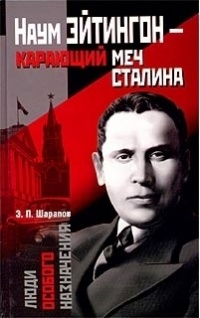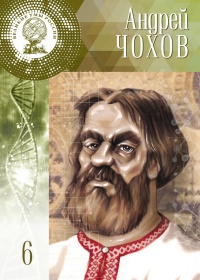Книга Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да брось. Всем известно, что им не нужны его расколотые женщины и голубые гитары. Им нужен политический плакат, но они хотят называть его искусством. — Я молчал, и он заговорил снова: — Чем же эта позиция отличается от позиции того лакея Франко, который пытался диктовать мне, что включить в программу, а что не стоит? Художник никого не должен слушать.
Я почувствовал, как у меня сводит челюсть.
— Полагаю, это зависит от того, что стоит на кону.
Мы подошли к моему дому. Аль-Серрас спросил, не может ли он остаться у меня на ночь, и я сказал, что в доме не работает отопление. Затем, осмелев от первой лжи, добавил, что в квартире работают слесари, и я сам не знаю, где сегодня буду ночевать. Так что лучше ему обратиться к другим знакомым, которых, я уверен, у него много.
В ту неделю разбомбили Гернику. Потрясенный, я отправился в посольство, прихватив несколько заранее написанных писем. В здании царил хаос: очередь желающих попасть внутрь вытянулась на всю улицу, на лестничных клетках толпились репортеры. У Аюба не нашлось времени для встречи со мной, а я так надеялся узнать у него хоть какие-то подробности. В одних сообщениях говорилось, что националисты разбомбили небольшой северный баскский город. В других утверждалось, что в налете участвовал нацистский легион «Кондор», с согласия испанских фашистов опробовавший новую стратегию ведения войны. Это была безжалостная атака на мирных граждан, для достижения максимального эффекта проведенная в разгар базарного дня.
Тогда мы не знали всей правды, которая в последующие недели будет подвергнута многочисленным искажениям, знали только, что случилось нечто небывалое, нечто ужасное. Почти вся Герника была разрушена. Разбегающиеся в панике жители гибли под огнем низко летящих самолетов. Впервые в современной войне удар подобной силы был нанесен по гражданскому населению, а не по военным целям.
Позднее Гернику назовут репетицией перед бомбежками Дрездена, Лондона, Хиросимы.
Я должен был что-то делать. Что-то гораздо более существенное, нежели игра на хрупкой виолончели. По два раза в день я ходил в посольство, но обычно некому было поговорить со мной. Я десятками, пока не сводило руку, писал письма. Получил множество ответов, ни один из которых меня не удовлетворил. Я призывал государственных деятелей оказать республиканцам помощь оружием и оказать давление на Италию и Германию. И читал в ответ восторженные отзывы о Бетховене и Форе, о том, какое удовольствие им доставили мои концерты и с каким нетерпением меня ждут для новых выступлений.
Весеннее тепло не проникало в темные углы моего убогого жилья. Водопроводные трубы лопнули от холода, и я держал в большом керамическом горшке глыбу льда, откалывая от нее по куску, когда мне нужна была вода. Плита, к счастью, еще работала.
В один из дней я колол лед, слушая сквозь помехи новости по маленькому приемнику. Репортер озвучивал заявление Франко, в соответствии с которым Гернику разбомбили не нацисты, а сами баски; якобы они с помощью газовых баллонов сожгли собственный город, чтобы обвинить в преступлении фашистскую Испанию и нацистскую Германию. Не сдержавшись, я заорал во весь голос: «А свидетелей вы опрашивали? А тела на улицах видели? А воронки от бомб? А осколки?» — и орал, пока помехи полностью не заглушили сообщение. Как они все перевернули с ног на голову! Безвинных превратили во врагов, а преступление — в невиновность. Я был так потрясен, что даже не заметил, как продолбил весь лед до дна в горшке и стучу по дну. Опомнился я, когда у меня по ногам потекли струйки воды. Весь стол был усеян осколками керамики. В дверь громко стучала соседская девушка: «Месье Деларго, с вами все в порядке?»
Под впечатлением от бомбардировки Герники Пикассо месяцем позже закончил свою фреску. Это было какое-то чудо: кони, быки, пустые подвалы и лампочки без абажуров, женщины с умирающими детьми на руках — абстрактный портрет ужаса, заполнивший всю стену страшными оттенками серого.
Я увидел это полотно на Всемирной выставке и бесконечно долго смотрел на него: из глаз текли слезы, и формы расплывались. Но работа художника удовлетворила далеко не каждого. Одним не нравилось ее политическое содержание. Другие, и их было большинство, включая испанских республиканцев из числа официальных лиц, критиковали ее как раз за недостаточно ярко выраженный политический характер. Где четкое послание, где определение зла? Бык в углу — это Франко или вся страдающая Испания? Кто агрессор, кто жертва? Что означает раненая лошадь?
После закрытия испанского павильона Гернику демонстрировали в Соединенных Штатах, где картина собрала всего семьсот долларов. Позже она была признана одним из шедевров Пикассо. Но не тогда, когда в Испании бушевала гражданская война. Не тогда, когда она имела наибольшее значение.
Живопись, понял я тогда, сродни тупому лезвию — с его помощью трудно сражаться. Но даже тупое лезвие может причинять неудобство. Я наблюдал это лично, когда, внося посильный вклад в работу павильона, исполнял на боковой сцене сольные пьесы. Обычно посетители выставки приближались к сцене, уже осмотрев всю экспозицию: и ртутный фонтан, и фотографии на стенах, и, конечно, «Гернику». Они приходили и уходили, а я играл, прислушиваясь к тому, о чем они говорили.
Помню двух американок, пожилую и молодую. Они плюхнулись на полукругом стоявшие возле сцены кресла, громко жалуясь друг другу на уставшие ноги, размер выставки и ужасную, «просто отвратительную», картину Пикассо. Зачем он изобразил все эти кошмары? Неужели там на самом деле все так плохо?
«Даже хуже», — хотел сказать я, но не мог отвлечься от финального повтора Сарабанды Баха.
— Вот это совсем другое дело, — услышал я голос молодой женщины, покачивающей головой в такт мелодии.
— Действительно, восхитительно! — подтвердила пожилая, дождалась конца пьесы и обратилась ко мне: — Скажите, вы тот самый сеньор Деларго, что два года назад выступал на Би-би-си? Можно ваш автограф? Это будет изумительным завершением трудного дня.
Я знал: эти женщины забудут, что видели «Гернику». Забудут с моей помощью. Пусть живопись — тупое лезвие в борьбе с войной, пусть художник — лицемер. Но музыка — это усыпляющая отрава.
Так я пришел к своему решению. Единственное, что я мог сделать, — это вообще прекратить играть. Я понимаю, что тому, кто прочтет историю моей жизни, может показаться, что я и раньше поступал подобным образом. Но это не так. Выбор 1937 года в корне отличался от выбора 1921-го. После Ануаля горе и ужас заставили меня умолкнуть, как будто музыка была слишком чистой, чтобы быть связанной с бедой. На этот раз бедой стала для меня сама музыка. Может быть, не причиной беды, а ее пассивным проявлением. Таким, как отказ Рузвельта помочь Испанской республике, как потворство Чемберлена Гитлеру, как нежелание членов антигитлеровской коалиции признавать, что им известно, какая судьба постигла евреев и цыган, а также испанцев — да, и испанцев — в концентрационных лагерях. Власть, не служащая делу мира и не желающая предпринимать усилий для его сохранения, превращается в негативный фактор. Жизнь убедила меня в этом.