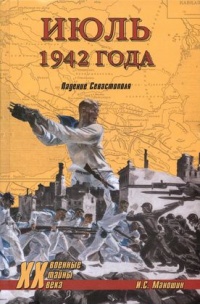Книга Вне закона - Овидий Горчаков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нашли кандидата! Вычеркните немедленно этого анархиста! – отрезал командир. – Эх, не хватает в тебе, Гаврюхин, политической остроты! Да ведь этот бузотер сорвал партийное собрание!.. И к ордену, чувствую, я его зря представил… Не горюй, Гаврюхин, парторганизацию мы обязательно создадим – не говорильню, а здоровую парторганизацию… И поменьше внутренней политики – есть, слава богу, политика внешняя!..
– Вычеркните, к черту, Щелкунова, Гаврюхин! – строго сказал комиссар Перцов, спотыкаясь сзади. – Вы что, оглохли? Этого Щелкунова из комсомола надо гнать!..
– Понимаю, понимаю! Так ведь один из лучших разведчиков, в хвост ему шило… – Гаврюхин тут же выхватил карандаш и, наморщив лоб, положил листок на полевую сумку, сумку на колено…
Зачеркнув фамилию Щелкунова, Гаврюхин мелкой рысцой бросился догонять командира. Я свернул с тропинки – мне не хотелось идти за Самсоновым, за Перцовым, за Гаврюхиным.
Эх, Гаврюхин, в хвост ему шило!.. Все мы считали его честным, добрым, неробким и неглупым человеком, даже умным узкожитейским умом. Таким он, впрочем, и остался – щепетильно честный, христиански добрый, храбрый в бою человек. «Всем взял у нас Гаврюхин, – сказал однажды о нем Серафим Жариков, – сердцем чист, духом тверд, только умом недалек. Большевику надобен особый ум, и зря его ни в анкете, ни при приеме в партию не спрашивают. Что ржете? Я лично потому и не подавал в партию, что нет у меня семи пядей во лбу».
И теперь мы увидели нового Гаврюхина. «Соскучился по партийной работе», – сказал о нем Щелкунов, жалуясь на стремление Гаврюхина каждую мелочь согласовывать с командиром. Нет, не по самой работе соскучился он, а лишь по обрядовой ее стороне, по ритуалу. Видно, Гаврюхин, при всей его честности и преданности, никогда не был настоящим, мыслящим коммунистом – он просто не дорос до этого звания. Сейчас он сел в чужие сани и слепо помогает Самсонову выхолостить из партийной работы всю ее партийную суть. Если у него и появятся кое-какие сомнения на этот счет, этот «солдат партии», как назвал его Самсонов, скоро успокоит себя: «Начальству видней». А партии нужны солдаты, а не солдатики с оловянными головами…
С помощью Гаврюхина Самсонов рассчитывает создать «здоровую», то есть покорную ему, выхолощенную эрзац-парторганизацию, будет, точно шаман, исправно соблюдать обряды и таинства, глушить всякий разговор о внутреннем состоянии отряда общими словами, и нам будет во сто раз трудней бороться с ним. Ведь для полной власти только одного не хватало Самсонову – партийной поддержки. А Гаврюхин – этот благонамеренный, слепой и околдованный добряк, который сам и мухи не обидит, даст ему видимость поддержки партии и будет бездумно шлепать уворованную у партии печать на самые кровавые решения Самсонова. Такая поддержка – и Самсонов это понял наконец – посильнее, понадежнее поддержки «ядра» строптивых комсомольцев-десантников…
Группа Богданова возвращалась с очередной «заготовки». Прошли те времена, когда продовольствие давалось без боя. За последние две недели чувствительно сократился мясной рацион. Свинина и баранина стали роскошью, доступной только штабным нахлебникам. Хозяйства наших поставщиков поневоле – полицейских и старост – охраняет ощерившийся дулами автоматов и пулеметов, прижатый к дорожным магистралям «новый порядок». Приходится открывать все новые и новые продовольственные базы в отдаленных районах, где еще не ступала нога партизана. Хозяйственная операция стала операцией боевой, операцией почетной.
Невдалеке от лагеря, на Хачинском шляхе, мы встретились с подрывной группой Барашкова. Минеры возвращались после трехдневной отлучки. Устало волочились за десантниками по седому песку шляха длинные косые тени. И сами они были похожи на тени в своем военном, защитного цвета, пропыленном, грязном обмундировании. Угрюмые, суровые, серые лица. Три Николая – Барашков, Шорин и Сазонов, Володька Терентьев, Гаврюхин… Гаврюхину за полсотни, а его восемнадцатилетние товарищи выглядят его ровесниками. Куда пропала былая округлость щек, детский румянец под нежным пушком? В глазах – жесткий, настороженный блеск…
Диверсанты молча взобрались на наши подводы, и, хотя сами мы шли пешком – телеги были перегружены, лошади измучены, – у нас не хватило духу согнать непрошеных пассажиров.
– Вы откуда? – разлепил сухие губы Барашков.
Шорин тут же заснул, положив голову на розовое брюхо зарезанного ночью борова, и во сне снова стал мальчиком…
– На хозоперации были. Две коровы, пара овец, свинья, муки шесть мешков, – отрапортовал я. – На три-четыре дня хватит отряду.
– На фронте как?
– Паршиво. Вчера, правда, не слушали: питание кончилось. Самсонов к Бажукову за батареями послал. Они там груз получили.
– Неужели нам в сибирской тайге партизанить придется? – вздыхает Барашков. – Что ж! Не сдаваться же фрицам… В отряде что слыхать? Щелкунов все групповщину разводит?
– Да брось ты!.. Самсонов шестой отряд формирует. Дзюба разбил автоколонну на шоссе. Ну а вы? На «чугунке» были? Спустили?
– С живой силой! – оживился на миг Николай. – Начисто. Классные вагоны всмятку – одни мертвяки. Четыре мины через сто метров с детонирующим шнуром… Охрана там сильная стала – раз пять пытались подобраться к «железке»…
– Вот это работа!.. – протянул Богданов завистливо. – А у нас вот Кольку-писаря убили. Дзюбовцы на рассвете нас за немцев приняли.
– Это того, вейновца?
– Ну да, Таранова. Вон Терентьев твой разлегся на нем.
Терентьева точно ветром сдуло с подводы. Он приподнял плащ-палатку, взглянул на меловое лицо Таранова. Подумал, должно быть, о том, что вот он, Терентьев, прошел, прежде чем добраться до «железки», огонь и воду, минировал бдительно охраняемое полотно и остался цел, а Таранова, вовсе и не ждавшего смерти, не подозревавшего об опасности, погубила нелепая случайность, которыми так богата война во вражеском тылу, – погубил мундир вермахта.
Но случайность ли? Ведь Таранов был причастен к убийству Богомаза, он ехал тогда за его велосипедом на телеге… Может быть, он знал, что Богомаза поджидают в засаде Ефимов и Гущин? Может быть, Самсонов решил убрать Таранова?.. Эти «может быть», эта проклятая подозрительность начинают сводить меня с ума. Недаром говорят: кто украл, на том один грех, а у кого украли, на том сто – всех подозревает…
Разгрузив в лагере подводы, сдав хозяйственникам коров и лошадей, припрятав в шалаше бутылку с медом и фляги с самогоном, десантники и партизаны собрались у кухни, где повар уже подогрел остатки вчерашнего супа и разложил большие ломти свежего хлеба.
– Спать не ложиться, – бодро объявил, проходя мимо, румянощекий Борька-комиссар, – через четверть часа – политинформация.
В ожидании доклада партизаны сгрудились у школьной карты европейской части Советского Союза, повешенной Борькой-комиссаром на ствол старого дуба. По этой карте и воюет наш горе-комиссар, почти не выходя из лагеря. Черные стрелы и кружки оставили далеко позади жирную черту весенней линии фронта, отмечая вехи летнего наступления немцев. Стрелки и кружочки, не поспевая за наступающими на юге 6-й полевой и 4-й танковой армиями вермахта, бледнели, мельчали, редели к востоку – не потому, что сводки Совинформ-бюро становились день ото дня все короче и суше, а немецкие сообщения казались нам все фантастичнее, а потому, что у тех самых отрядных стратегов, которые еще недавно после каждого сообщения о местных успехах наших войск на западном или брянском направлениях любовно выводили обращенные острием на запад огромные красные стрелы, за последние полтора месяца, когда черные стрелы нацелились на кавказскую нефть, на хлеб и заводы Восточной Украины, отпала всякая охота портить и карандаши, и карту.