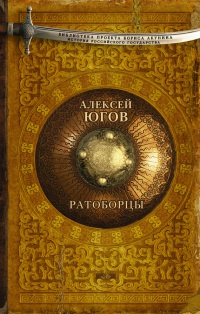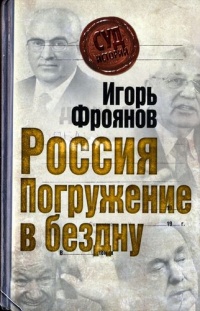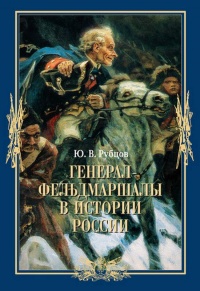Книга Пекинский узел - Олег Геннадьевич Игнатьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— И никто не приподнимет завесу времени, не откроет сцену событий, — в тон ему сказал Баллюзен. — У союзников семь пятниц на неделе.
— Особенно, у лорда Эльджина, — посетовал Николай. — Он опытный игрок, мне ему трудно верить.
— Ине надо, — посоветовал хорунжий. — Нам с ним детей не крестить.
— В принципе, верно, — подставил лицо солнцу Баллюзен. — Наше доверие дорогого стоит.
— Я сам так считаю, — сорвал стебель тысячелистника Игнатьев и понюхал белое соцветие. Запахло корой дуба и прогорклым мёдом. — И не ручаюсь, что от избытка чувств барон Гро или же лорд Эльджин полезут ко мне целоваться и признаваться в вечной дружбе; но я полагаю, что китайцы по достоинству оценят моё вмешательство в их затянувшееся дело с европейцами, если те решатся пригласить меня в посредники.
— Я так понял, — неуверенно сказал Баллюзен, — что союзники между собой не очень ладят?
Николай утвердительно кивнул.
— Англичане колошматят китайцев, но при этом норовят лягнуть и французов — оттеснить их при дележе добычи. Есть такое подозрение. Алчность англичан чудовищна. Для них война это двойной расчёт: копеечку — в казну, а рубль — в загашник.
— Войною управляют подлецы, — с горечью заметил Баллюзен. — В крымскую кампанию мы очень много потеряли раненых из-за прямого казнокрадства интендантов, из-за разгильдяйства тыловых чинуш. Мы триста сорок девять дней бессонно обороняли Севастополь, а они не удосужились за это время подвезти для раненых тёплых одеял, бинтов, той же крупы. — Баллюзен скрипнул зубами. — Мерзавцы! От холода и грязи погибло больше, чем от ран, и никого при этом не судили. Никого! — От гнева его голос сел и он закашлялся. — Простите.
Игнатьев знал, что гвардии капитан конной артиллерии отчаянно смел и горяч, но чтоб настолько, не предполагал. Правду жизни видят многие, но говорят о ней избранные. С этого дня он проникся к Баллюзену глубочайшей симпатией. Хороший командир таким и должен быть: верным царю и не дающим в обиду солдат. Он сам старался делать всё, чтоб ему верили, чтоб шли за ним без страха и упрёка.
— Хуже нет, когда преступник остаётся ненаказанным, — сочувствующе сказал он Баллюзену. — Русская армия это дисциплина и вера. Вера и доверие. Вера в Крестную силу — с нами Единый Бог! и доверие к начальству — от нижних чинов до главнокомандующего, тогда её ряды не разорвать, она несокрушима. — Он отбросил стебель тысячелистника и посмотрел на часы. — Пора возвращаться.
Хорунжий подвёл к нему коня.
— Китайцы говорят: зачем спешить? куда? — улыбнулся Татаринов, подходя к Игнатьеву вместе с Шимковичем. — Едешь — живёшь, сидишь — живёшь. Вот и вся философия жизни.
— Очень мудро, если речь идёт о жизни, как о замкнутой системе, — вставил ногу в стремя Николай и умялся в жёстком английском седле. — Но меня волнует качество жизни. Её свойство, применительно ко мне. — Он потянул поводья — конь под ним так и ходил, перебирал ногами, не стоял на месте. — Я предпочитаю действовать, а не сидеть, сложа руки. И так на Руси праздношатающихся пруд пруди, и, думаю, ещё прибудет.
— В связи с чем? — уселся на своего жеребца Баллюзен.
— В связи с предстоящей реформой: отменой крепостного права. — Вот когда брожение в умах станет всеобщим, — сощипнул со штанины колючку репья Татаринов. — Закипят амбиции и страсти, ахнут паром. Горе тому, кто окажется рядом.
— Ошпарит враз, и шкура чулком слезет, — весело сказал хорунжий.
Игнатьев вспомнил Бухару, вспомнил шустрого узбека, который на его глазах мгновенно освежевал ягнёнка, сняв с него шкуру именно "чулком", и его передёрнуло... Есть шашлык и видеть, как его готовят — б-р-р-р!.. Не надо никаких застолий и гостеприимства на восточный лад — с такой наглядной кровожадной декорацией.
— Вы полагаете, что общество разгорячится? — объезжая рытвину, залитую водой, спросил Баллюзен и недоверчиво посмотрел на Татаринова. — Страсти закипят?
— Ещё какие! — с непонятным воодушевлением, подтвердил драгоман. — И закипят, и бульбы пустят. Если пар не выпустить, рванёт котёл — попомните меня.
— Там, где люди трудятся, там всё хорошо, — попытался возразить Баллюзен и посмотрел на Игнатьева, точно ища его поддержки.
— Там, где все трудятся, — с нажимом произнёс Татаринов.
— Я знаю одно, — чувствуя, что внимание офицеров обращено к нему, заговорил Николай. — Сначала моя жизнь посвящена России, а уж затем — её политике. — Понимая, что его ответ может быть истолкован как излишне уклончивый, счёл нужным пояснить. — Если не будет величия в делах, не будет незыблемых законов в государстве, всё измельчает, люди изверятся, царство разрушится в самом себе. — Он какое-то время молчал, потом добавил. — Я прекрасно сознаю, что многим, очень многим при жизни власть создаёт пьедесталы из хвороста.
— Из хвороста? — с недоумением посмотрел на него прапорщик Шимкович. — Зачем?
— Чтоб легче было потом жечь. Властные люди лукавы. Они знают, что репутация это одно, а человеческая личность — зачастую! — нечто противоположное. Репутацию создают люди, а человека — Господь Бог, и только Он, Всевышний, знает, кто есть кто, как говорят англичане. — Он обращался уже прямо к Шимковичу, который слушал, приоткрыв рот, и это его чисто детское выражение требовало полной искренности, заставляло отвечать с откровенной прямотой. — Отец мне всегда говорил: «Если хочешь чего-нибудь добиться, ничего не проси для себя — проси за других и для других».
— Бескорыстие украшает, — заметил Татаринов.
— Естественно, — поддержал его Баллюзен и, видя, что хорунжий отстаёт, махнул ему рукой: — Не отставать!
Чурилин сразу нахлестнул коня.
— Дело не в том, что доброе дело украшает, — обратился Игнатьев к драгоману. — Отдавая, мы приобретаем. Праведники — святость, миряне — силу духа, творческую волю, память поколений. Человек чести это резец, оставляющий след на незримых скрижалях истории. В этом я с Конфуцием согласен целиком.
— Господь тайное видит, — отозвался Шимкович. Скулы его обветрились, зажглись румянцем.
Казаки ехали поодаль, чтоб не мешать "их благородиям "своим простецким разговором.
— Сам-то, вишь, с лица опал, горюнится, — поглядывая в сторону Игнатьева, сочувственно сказал Шарпанов.
— А то ж! — отозвался Курихин. — Вторую зиму припухать в Пекине — рази дело?
— Опять же, у