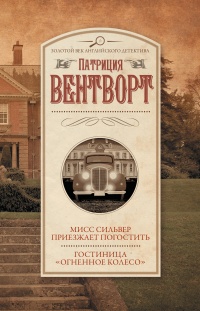Книга Без шума и пыли - Леонид Влодавец
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, начнем с того, что развитием науки и техники можно управлять только в социалистическом или, если хотите, в тоталитарном обществе. То есть там, где государство является главным и единственным заказчиком разработок и может сказать ученым: вот на это мы дадим деньги, а на это — нет, потому что, с нашей точки зрения, это вредная лженаука. Или еще проще: «Народу это не нужно!» Соответственно, если ученым не удастся убедить власть, что «народу это нужно», то они смогут заниматься той или иной проблемой только у себя дома, да и то если это не требует серьезной экспериментальной базы. Вместе с тем то же государство может сказать: «Народу нужен ракетно-ядерный щит! Сделать и доложить к такому-то съезду партии!» И, не считаясь ни с какими затратами, товарищи ученые сделают и доложат.
А в «рыночном» мире все не так. Можно побегать по бога-теньким господам, пообивать пороги и найти себе спонсора. Или даже всерьез заинтересовать грядущими прибылями. Конечно, в фундаментальные исследования, которые, грубо говоря, неизвестно чем закончатся, не всякий решится вкладывать деньги, но в прикладные разработки, основанные на новых принципах и с хорошим экономическим обоснованием, — от инвесторов отбою не будет. Причем этим господам важно одно: как будет продаваться то, что изобретено и сконструировано. А вредно это или полезно, опасно или нет, вопрос десятый. Даже если государство запретит производство и продажу какого-либо товара законодательно, наиболее отчаянных коммерсантов это не остановит. Потому как запрещенный товар дороже стоит. Те же наркотики, например, или оружие. Там, где запрещена их свободная продажа, на эти товары наворачивают самые высокие прибыли. Вместе с тем из любой, вроде бы совершенно безопасной вещи можно при желании сделать опасную. Кто бы мог подумать, допустим, в 50-х или даже 60-х годах, что при помощи персонального компьютера можно будет грабить банки, не выходя из собственной комнаты? Или воровать секретную информацию? Точно так же в те годы только-только подходили к пониманию, что средства массовой информации могут контролировать общественное поведение, причем не только на уровне сознания, но и воздействовать на подсознание, когда те или иные идеи, убеждения, оценки будут внедряться в психику множества людей на рефлекторно-инстинктивном уровне. Примерно так, как ребенка учат не писать в штаны.
— Вы имеете в виду тот фильм, что я задумал? — сквозь зубы процедил Манулов.
— Ну, то, что вы задумали, — усмехнулся Борода, — выражаясь по-русски, полный наивняк. Я уже вам объяснял, что ждет ваших хакеров, которые попытаются взломать и переработать программы девушки Ани. Но даже если б я вам дал вполне готовые программы и терпеливо объяснил, как их надо применять для достижения ваших целей, то ничего путного у вас не вышло бы. Тотального воздействия на современную российскую аудиторию достичь невозможно. Гораздо легче было охмурять ее в конце 80-х годов, когда сознание масс было до определенной степени унифицировано партийно-советской пропагандой, отставшей от требований времени. В том смысле унифицировано, что сама эта пропаганда воспринималась как ложь, а все, что ей противоречило, — как правда и истина в последней инстанции. Была в годы Гражданской войны такая песня: «Мы сами копали могилу свою…» Очень четко отражает ситуацию.
— Ну и что изменилось к настоящему времени?
— После 1991-го в российском обществе оформилось три основные системы ценностей: прозападно-демократическая, национал-патриотическая и коммунистическая. Причем внутри каждой из этих систем полно всяких ветвей, ответвлений и веточек.
Западников объединяют стремление к снижению роли государства в экономике и внутренней политике, вступление России в глобальные рыночные отношения на условиях, предложенных «Большой семеркой», и безусловное следование рекомендациям, которые исходят из-за бугра. Ну и конечно, все они полностью отрицают и коммунизм, и социализм в какой бы то ни было форме. А делятся они прежде всего по финансовым интересам, по ориентации на те или иные западные страны, наконец, по отношениям к форме правления: одним хотелось бы увидеть авторитарную президентскую республику с каким-нибудь «де Голлем» или даже «Пиночетом» во главе, другим — парламентскую демократию на манер нынешней германской или итальянской. Но монархию там в громадном большинстве не приемлют, даже в конституционной форме. Они отторгнут ваши суггестивные программы как раз на подсознательном уровне.
— Про коммунистов можете не говорить, — заметил Манулов, — но ведь существуют же национал-патриоты? Среди них полно монархистов!
— Да, имеются, — кивнул Борода. — Но нацистов и полуфашистов там больше. Да и у тех, кто жаждет возвращения к самодержавию, православию и народности, одна лишь форма вашего носа вызовет подсознательное отторжение. Прошу простить за некорректность, но я просто констатирую факт. Кроме того, из романа, сочиненного Вредлинским, трудно выкроить приличный сценарий, и даже мастерство Крикухи вряд ли поможет сделать фильм интересным для зрителя. А для того чтоб суггестивные программы сработали, фильм должен быть сам по себе увлекательным. Хотя бы на уровне добротного боевика с захватывающим сюжетом.
— В общем, вы уличили меня в полном непрофессионализме…— вздохнул Манулов почти непритворно. — Не гожусья на роль царя.
— Вы это гораздо раньше осознали, Павел Николаевич. Вам ведь уже за шестьдесят, а вы все не уйметесь. С чего бы? Вы ведь достигли за кордоном благополучия, которого подавляющее число эмигрантов так и не дождалось. Сотни тысяч из Союза уезжали и сейчас из России уезжают, а так, как вам, повезло немногим. И вдруг вы, рационалист до мозга костей, человек, который на пять ходов вперед просчитывал жизнь, бросаясь в явную авантюру, ставите на кон все, что нажили интенсивным и даже опасным трудом. Ведь вы даже от поручения своих калифорнийских магистров, которые вас направили в Россию, запросто могли отказаться. А вы, прекрасно понимая, что гонитесь за химерами, ввязались в эту ерунду. Власта — на грани маразма, ее навязчивые идеи и манию величия диагносциро-вать нетрудно, но вам-то еще далеко до нее, по-моему… Может, ответите, с чего вы так взбрыкнули?
— Сам не знаю… — развел руками Павел Николаевич. — Мне сейчас почему-то Островский в голову лезет. Насчет «подленького и мелочного прошлого». Конечно, за освобождение человечества я бороться и сейчас не стану, но совершить нечто глобальное мне захотелось. Вы правы, я всю жизнь посвятил какой-то низкой, меркантильной возне. В Союзе крутился-вертелся, в Америке то же самое, рисковал ради денег. Даже сказать, что жил в свое удовольствие, нельзя. Семьи и то не завел. Ни одного фильма, который хоть чем-то прославился, не снял. Вредлинский, хотя он по сравнению со мной — нищий, да и вообще бездарь, если по большому счету, — в каких-то энциклопедиях и словарях упоминается, ежели помрет, так десяток-другой знаменитостей придет хоронить. Некролог, глядишь, в «Литературке» тиснут… А у меня ничего этого не будет. Даже этого! И тут шанс, сумасшедший, мизерный, но шанс. Вот и рискнул… Пожалуй, другого объяснения я вам дать не могу.
— Что ж, благодарю за откровенность, — произнес Борода. — Я вам тоже широкой известности не обеспечу, да и шикарных похорон не обещаю. Но убивать по-настоящему не буду. Возможно, вы мне еще пригодитесь когда-нибудь.