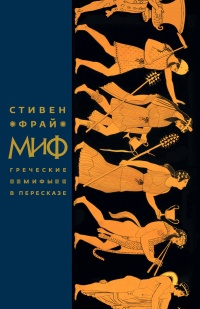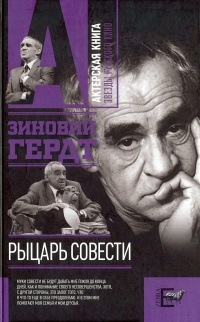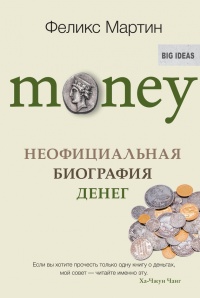Книга Опасные советские вещи - Анна Кирзюк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Механизм фольклорной компенсации, о котором мы говорили в первой главе, изображает реальность более психологически комфортной, чем она есть на самом деле. В реальной жизни мы чувствуем страх и беспомощность перед возможной агрессией со стороны врага, но в фольклорном тексте ситуация переворачивается: здесь уже враг выглядит беспомощным, а мы — сильными.
Все слухи и городские легенды, которые мы обсуждали в этой главе, были связаны с темами смерти и власти.
Одни тексты стали результатом культурной «проработки» страхов, которые взрослые в мире советского ребенка обсуждали мало и неохотно, — будь то страх перед насилием со стороны государства (сюжеты о черной «Волге» и красной пленке) или со стороны преступника (сюжеты о маньяке и красной одежде). Иногда ребенок что-то слышал от взрослых о таких явлениях, как КГБ или репрессии, но в целом тема государственного насилия внутри семьи была табуирована даже в «вегетарианские» 1970‐е годы и взрослые детям старались ничего не рассказывать «на всякий случай»[908]. Если советский ребенок что-то знал о маньяках, то почти исключительно из случайно услышанных разговоров, обмолвок, эвфемизмов и странных инструкций родителей.
Что касается грядущей ядерной войны, то о ней, наоборот, говорили и писали слишком много. Но именно обилие таких пропагандистских рассказов, уроков, диафильмов и приводило к тому, что дети по ночам просыпались от кошмаров про ядерный гриб, который встает за окном.
Но во всех случаях ребенок оставался один на один со своими страхами. И тут на помощь ему приходил фольклор, который помогал эти страхи артикулировать, чтобы предупредить об опасности других, или компенсировать их, чтобы крепче спать по ночам.
При этом носитель фольклора, рассказывая историю или исполняя песни, совершенно не обязательно понимает все скрытые смыслы фольклорных историй. Советские дети могли совершенно не задумываться, почему именно черная «Волга» ворует детей, откуда возникает желание контролировать одноклассников с помощью несуществующей красной пленки или зачем так хочется петь «мы летим кормить медуз». Психологический комфорт слушателя и рассказчика обеспечивается не пониманием спрятанного сообщения, которое содержится в каждом фольклорном тексте, а самим фактом его передачи.
В 2018 году в консервативной Ирландии проходил очень скандальный референдум по вопросу разрешения абортов. Группа исследователей провела опрос ярых противников и сторонников нового закона. Им показывали новостные сообщения о пяти недавних медийных скандалах вокруг законопроекта и предлагали выразить свое к ним отношение. Что тут такого — скажете вы? Но на самом деле это был не опрос — это был когнитивный эксперимент, опрашивающими были не социологи, а когнитивные психологи, а среди пяти скандалов два были ложные. Тем не менее люди охотно вспоминали и обсуждали никогда не случавшиеся скандалы в том случае, когда они играли в пользу их политической позиции — за или против разрешения абортов[909]. Этот пример — один из многих, показывающих, какой властью обладают «ложные воспоминания» и как охотно люди верят в тот опыт, которого у них никогда не было. Наше представление о реальности состоит из того, что мы о ней помним. Проблема заключается в том, что помнить мы можем не то, что было, а то, что наш мозг считает нужным вспомнить. Он охотно создает себе мир дополненной реальности.
Городская легенда — часть такой дополненной реальности. В основе городской легенды может лежать сильно преувеличенный рассказ о реальном происшествии или ложное воспоминание, а может — фольклорный сюжет, который передается веками. Это на самом деле не важно. Важно то, почему вдруг эта история начинает нас волновать и почему мы считаем необходимым распространить информацию о ней.
Совсем недавно, в апреле 2018 года, один из авторов этих строк стал свидетелем следующего происшествия. В московской парикмахерской ждали своей очереди несколько женщин, и одна из них внезапно сказала, прерывая типичную московскую беседу о мигрантах: «А вот я слышала, что в Торе написано: евреи должны ловить и есть чужих детей». Повисла неловкая пауза, кто-то вежливо выразил удивление, кто-то хихикнул, и, в общем, довольно быстро тема разговора поменялась. Однако мы знаем, что эта нелепая ремарка — очередная реализация сюжета многовековой[910] давности о кровавом навете, то есть обвинении евреев в использовании крови христианских младенцев в ритуальных целях. О советских вариантах кровавого навета мы не раз вспоминали на страницах книги, и эти советские легенды вызывали как панику, так и желание скорой расправы с представителями этой группы (с. 6, 352).
Так существует ли сейчас паника по поводу еврейских злодеев, которые охотятся за детьми, особенно перед еврейской Пасхой? Очевидно, нет. И массового распространения таких легенд сейчас тоже не наблюдается. А сам сюжет есть. Мало того, он не ушел в какое-нибудь Зазеркалье. Он продолжает существовать, но в «спящем» режиме. И время от времени «просыпается», иногда — в виде вот такой вот «забавной» информации, которой можно удачно заполнить паузу в разговоре.
В легенде про евреев, которым Тора якобы рекомендует есть чужих детей, сообщение практически равно сюжету. Рассказывая ее, посетительница парикмахерской вряд ли хотела призвать всех к погрому. Она упомянула эту историю в контексте разговора о мигрантах — просто как пример того, что в принципе этнические чужаки очень сильно от нас отличаются, в том числе по своим моральным нормам. «Остенсивный заряд», то есть способность легенды провоцировать физические и социальные последствия для слушателей, практически нулевой: никто не отказал евреям в праве, например, посещать парикмахерскую.
Однако, как уже знает наш читатель, подобные рассказы не всегда так безобидны. Время от времени спящий сюжет переходит в активное состояние, и легенда начинает распространяться по всем возможным неформальным каналам — от коммунальных кухонь до приемных партийных начальников. Белоснежку будит от смертного сна поцелуй прекрасного принца, а легенда выходит из «спящего режима» благодаря определенной социальной ситуации, когда большие массы людей теряют ощущение контроля над своей жизнью, испытывают лишения и страх.
Но как связаны городские легенды и ощущение опасности? Городская легенда — это информация, подтвержденная не фактами, а ссылками на социальные авторитеты. Для кого-то этим авторитетом является «сестра жены» или безличное «на работе все говорят», для кого-то — властные институты («слышал, что даже в газетах про это пишут»). Таким образом, рассказчик формально транслирует точку зрения других людей или институтов, а не свою. Ссылка на мнение конкретных или анонимных «других» позволяет артикулировать то, что сложно высказать от своего собственного имени. Ты не можешь позволить себе рискнуть репутацией и рассказать, что ты не любишь мигрантов, зато ты можешь рассказать якобы достоверную историю об их преступлениях со ссылкой на соседа. И волк сыт, и овцы целы. В ситуации опасности акт передачи жизненно важной, но малоизвестной информации не просто укрепляет социальные связи, но и позволяет быстро выработать внутри группы согласие по вопросам «откуда ждать опасности?» и «как от нее спастись?».