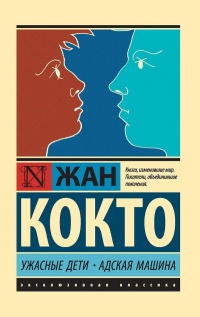Книга Метеоры - Мишель Турнье
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вот тогда я вдруг почувствовал уверенность в том, что дотронулся до этого гриба. Я не только видел, но, несомненно, провел кончиками пальцев по его выпуклой, чуть теплой, бугристой поверхности, точно так же я ощутил свежесть земли и травинок, отягченных росой, среди которых рос мой ликопердон. Кисть моей левой руки, спонтанно вытянувшись от запястья на одиннадцать метров, присутствовала на свидании моего глаза с этим беловатым грибочком.
Но в это же время левая нога была просто проглочена, всосана обрубком! Испарилась. Можно было подумать, что правая половина моего тела не имела еще достаточно силы, чтобы бросить на завоевание мира левую сторону тела целиком, и что она делала пробу, толкая вперед то руку, то ногу, в ожидании лучших времен.
………………………
Я понял, что в черной ночи моего страдания смутно отождествлял потерянные руку и ногу с моим исчезнувшим братом-двойником. Действительно, когда нас покидает кто-то дорогой — мы будто претерпеваем ампутацию. Уходит кусок нас самих, мы его провожаем и хороним. Жизнь будет идти своим чередом, но мы уже навсегда стали инвалидами, прежними нам не быть.
Но у близнецов особая мистерия, и чудо — исчезнувший брат каким-то образом снова существует в разлученном, но еще живом близнеце. Эта левая сторона тела, которая двигается, действует, пускает фантастические отростки по комнате, саду, а то и в море и в небо, — это Жан, я узнал его, вселившийся в своего брата, Жан-беглец, Жан-кочевник, Жан — заматеревший путник.
И на самом деле в нашем большом путешествии мы имитировали неловким, несовершенным, почти комичным образом — будто непарные — глубокую истину, саму основу двойничества. Мы преследовали друг друга, как жандарм вора, как актеры комического фильма, не понимая, что, пусть и карикатурно, повинуемся последней формуле Бепа:
Рассеченное двойничество = вездесущность.
Потеряв моего брата-близнеца, я должен был бежать из Венеции на остров Джерба, оттуда — в Рейкьявик, потом в Нару, Ванкувер, Монреаль. Я мог бы продолжать свой бег еще далее, потому что моя разлученность приказывала мне быть повсюду. Но это странствие оказалось только пародией на священнодействие, и я должен был в конце концов остановиться под Берлинской стеной — с единственной целью: претерпеть ритуальные муки, необходимые для достижения другой вездесущности. В этом свете необъяснимое исчезновение Жана было не чем иным, как оборотной стороной этой жертвы.
………………………
Ребенок конструирует мир, собирая воедино визуальные, слуховые, тактильные и прочие ощущения. Когда же предмет становится для него узнаваемым по форме, цвету, звуку, вкусу, он отбрасывается во внешнее пространство, о нем можно больше не беспокоиться.
Я занят аналогичным процессом. Пузырь, который я надуваю вокруг себя, становится все больше и больше, вылазки моей левой половины все дальше и дальше, сюрреальные образы, которые мне дарит «Юмо», — все полученные такими путями сведения о мире смешиваются меж собой, и вот моя кровать становится центром чувствительной сферы, с диаметром, растущим день ото дня.
………………………
Серый покров облаков, развернувшись в небесах от края до края, похож на униформу, истрепанную легким бризом, он износился и превратился в прозрачный тонкий слой мрамора, сквозь который струится небесная лазурь. Вскоре мрамор начинает покрываться трещинами, но они образуют правильный узор из прямоугольников, подобный квадратикам в детской игре, промежутки между которыми становятся все больше, все светоносней.
Расширяющаяся душа. Она была привилегией братьев-близнецов, полотном, натянутым между ними, сотканным из мыслей, чувств, ощущений, узорных, как восточный ковер. Тогда как душа «непарного» прячется, сжавшись, в темном уголке, полная постыдных тайн, похожая на скомканный в кармане носовой платок.
Мы играли в это развертывание души все наше детство. Потом мы растянули ее до размеров земного шара, вышивая на нем экзотические, космополитические узоры. Но игра эта стала уже не вполне полноценной. Мировое измерение нужно сохранить, но важнее восстановить правильность и тайну детской игры «в классики». Вместо космополитического нужно придать ему космическое измерение.
………………………
Этим утром небо было прозрачным и ясным, как алмаз. Но в глубине бедра как будто проводили лезвием бритвы, глубокие уколы тонкой иглой, ввинчивали узкое острие — и это предвещало перемены. И впрямь, небо покрылось тонкими нитями, шелком, в нем появились стеклянные кристаллы, подвешенные как люстры на непостижимой высоте. Потом кристаллический шелк, утяжеляясь, превратился в горностаев мех, в шерсть ангоры, мериноса, и мой живот погрузился в эту мягкую и гостеприимную оболочку. Наконец появилось и приблизилось огромное облако, торжественный кортеж, грандиозный, брачный кортеж. Я узнал в нем два силуэта, светящихся счастьем и благостью, — взявшихся за руки Эдуарда и Марию-Барбару. Они шли навстречу солнцу, благодатная сила этих божеств излучалась так интенсивно, что вся земля улыбалась этому шествию. И в то время как левая половина моего тела, ликуя, смешалась с этим кортежем и потерялась в светящемся снежном лабиринте, моя правая сторона скорчилась на своем ложе, плача от нежности и тоски.
Шествие растворилось в блеске восхода, а весь оставшийся день можно было видеть пролетающие облака, постоянно меняющиеся, похожие на толпы крошечных, фантастических людей — свиту из форм и намеков, гипотез и обрывочных снов.
………………………
Весь день ласковое бабье лето извлекало из пожелтевших деревьев чудесную музыку, а редкие дуновения ветерка пролетали, унося несколько рыжих листьев. Потом все умолкло, солнце перестало греть и зарядило облака электрическими волнами. Блестящие вершины окружил свинцовый хаос, и круговерть прыщавых и пятнистых сосков помчалась из глубины горизонта, скользнув вдоль моей подошвы, ляжки, бедра. В цитадели облаков пробилась брешь, оттуда вылетело световое копье и вонзилось в серое вялое море, осветив его на миг фосфоресцирующим, горячим, почти кипящим блеском. Но я не позволил отвлечь себя этим световым пятном, так как знал, что это продлится лишь миг и скоро тьма укроет его. Так и случилось, световая брешь исчезла, и разбушевавшийся хаос окутал меня электрическими волнами. Сад погрузился в темноту, оставив сиять только один золотой сноп, его стебли непонятно и странно мерцали. С помощью «Юмо» я различил рой мотыльков, прилетевших собирать пыльцу и кружащих вокруг желтеньких цветочков. Разумеется, ночные мотыльки тоже собирают пыльцу, и наверняка в темноте. Почему бы нет? Открыв этот маленький секрет природы, я ощутил по всей длине моей левой руки шевеление бесчисленных крыльев, шелковистых, серебряных.
Потом в моей груди разразилась гроза, и слезы мои потекли по стеклам веранды. Моя печаль заявила о себе отдаленным грохотанием на краю горизонта и обрушилась громовым раскатом на бухту Аргенона. Моя боль перестала быть тайной, неостановимо гноящейся под гипсом раной. Мой гнев охватил небо и проецировал в него образы, различимые при свете молний: вот немцы втаскивают в зеленый грузовик Марию-Барбару, вот Александр, пронзенный кинжалом, распростерт в касабланкских доках. Вот Эдуард бредет из лагеря в госпиталь с дощечкой, на которой фотография нашей исчезнувшей матери, вот Жан пересекающий прерию, обгоняющий меня. Вот красная, сочащаяся челюсть берлинского туннеля медленно смыкается вокруг меня — вот он, весь страдальческий реквизит, направленный против судьбы, жизни. Против всего. И пока мое правое тело, в ужасе скрючившись в постели, с трудом сдвинулось в угол, моя левая половина опрокинула небо и землю, как Самсон, обрушивший в гневе колонны храма Дагона. Потом, несомая яростью, она бросилась на юг, беря в свидетели своего горя корсельские ланды и пруды Жюгона и Болье. Потом хлынул дождь, частый, тяжелый, утешающий. Он прекратил кризис, убаюкал мою грусть, населил влажным шепотом и легкими поцелуями мою сухую и одинокую ночь.