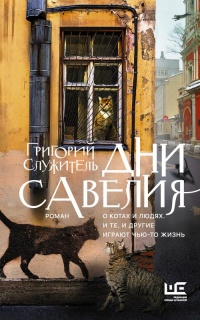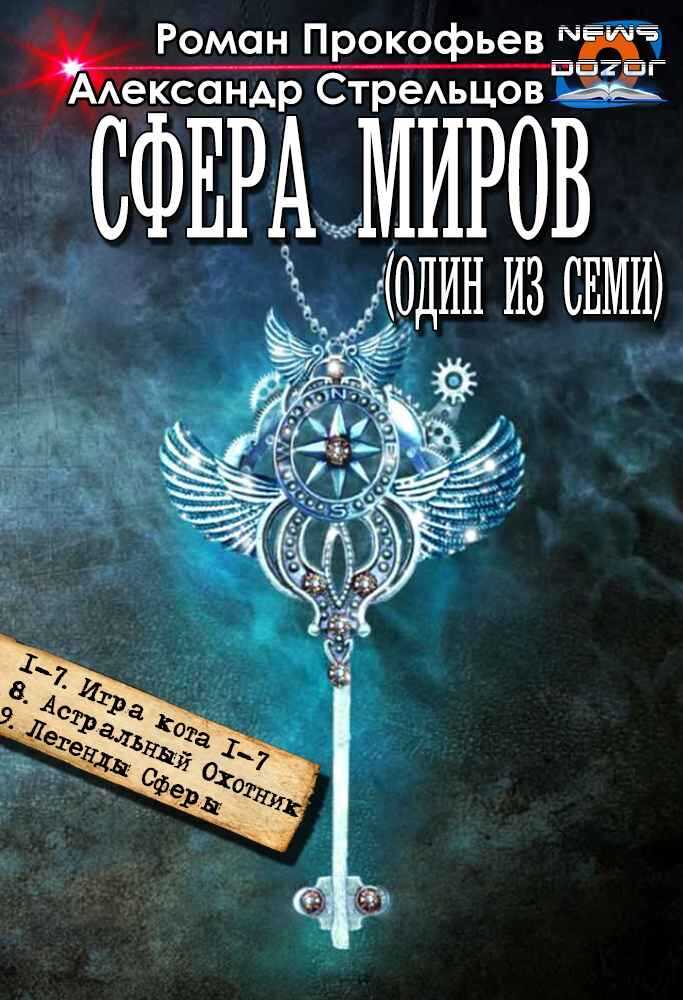Книга Житейские воззрения кота Мурра - Эрнст Теодор Амадей Гофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– И все же, – заговорил Крейслер, – мне эта треуголка, эта сабля, этот столик, этот стул – все это мне, говорю я, представляется совершенно невыносимым, и я предпочел бы, чтобы художник убрал бы весь этот стаффаж с переднего плана и набросил бы на себя какое-нибудь неопределенное одеяние вместо этого явного и недвусмысленного сюртука. Скажите сами, достопочтенный отче, можете ли вы вообразить себе сцены Священной Истории в современных костюмах: святого Иосифа – в байковом сюртуке, Приснодеву – в бальном платье с наброшенной на плечи турецкой шалью? Не кажется ли вам, что все это показалось бы недостойной или, более того, отвратительной профанацией всего прекрасного и возвышенного? И все-таки старые, преимущественно германские мастера представляли все библейские и евангельские сцены в костюмах своей эпохи, и совершенно ложным было бы мнение, что одежды того времени больше подходили для их воспроизведения в живописи, чем нынешние, которые, впрочем, за исключением иных женских нарядов, кажутся мне в достаточной степени нелепыми и вовсе не живописными по самой сути своей! И все-таки мне хочется сказать, что иные моды прежних времен доходили до невероятных преувеличений, до полнейшей чудовищности, – стоит только вспомнить эти туфли с клювоподобными носами, искривленными и задранными на целый аршин ввысь, эти похожие на буфы шаровары, эти камзолы и рукава с разрезами и т. д., и уж совершенно неуместными и искажающими лицо и фигуру были многие женские наряды, которые мы обнаруживаем на старинных полотнах, на коих юные, цветущие и хорошенькие девушки – настоящие картинки! – только из-за своих нарядов выглядят как пожилые и мрачные матроны. И все-таки несомненно, что эти картины никому не казались непристойными.
– Что ж, – возразил аббат, – теперь я могу вам в немногих словах, мой милый Иоганнес, изобразить различие между старинными благочестивыми временами и нынешней эпохой всеобщей распущенности; я ясно представлю эту разницу вашим очам. Видите ли, в былую эпоху незабвенные евангельские образы настолько глубоко вторгались в человеческую жизнь, более того, я сказал бы даже, настолько становились одним из условий этой жизни, что каждый верил, что чудесное свершилось перед его глазами и что вечное всемогущество Господне каждый день способно творить подобные чудеса.
Так благочестивый художник переносил в свою эпоху Священную историю, к которой были обращены все его чувства; среди людей, подобных тем, какие окружали его в повседневном существовании, он видел, как свершаются чудеса, как творятся деяния милосердия и благодати, и как въяве видел он их в жизни, такими он и запечатлевал их на холсте. В наши же дни все эти истории представляются нам уже чем-то совершенно отдаленным и не вступающим в современную жизнь, чем-то влачащим некое вялое существование лишь в воспоминаниях наших; с трудом берется художник за то, чтобы живо выразить все свое миросозерцание, тут-то он и сам не достигает собственного уровня – его внутреннее чувство подавлено безысходной мирской суетой. Столь же безвкусным и смехотворным нахожу я, однако, в свою очередь, то, что старых мастеров упрекают в незнании костюма и находят в этом причину того, почему они изображают в своих картинах только одежды своей эпохи, хотя наши нынешние юные мастера тщатся во что бы то ни стало изобразить в своих картинах на сюжеты из Священного Писания самые надуманные и причудливые, самые безвкусные средневековые наряды, но тем самым они только демонстрируют, что то, что они вознамерились изобразить, они наблюдали отнюдь не непосредственно в живой жизни, а удовольствовались только отражением того, как оно все изображалось в полотнах старых мастеров. Именно потому, мой милый Иоганнес, что современность слишком нечестива, чтобы не вступать в отвратительное противоречие с этими набожными легендами, потому что нынче никто не в состоянии представить себе те чудеса как происшедшие среди нас, именно поэтому, конечно, изображение чуда в наших современных костюмах кажется нам безвкусным, уродливым и даже шаржированным! Однако если Всевышний решит, чтобы у всех нас на глазах действительно совершилось чудо, то было бы совершенно недопустимо изменять костюмы эпохи, и если молодые художники наших дней желают обрести некую единую точку опоры – а они, конечно, желают этого, – то они должны прежде всего позаботиться о том, чтобы при изображении событий давних дней были в какой-то мере соблюдены костюмы соответствующей эпохи, – там, где возможно, установить, каковы были эти костюмы. Прав, снова повторяю я, был создатель этой картины, что он дал в ней указание на современность и именно тот самый стаффаж, который вы, мой милый Иоганнес, отвергаете, находя его негодным и предосудительным. Именно этот стаффаж вселяет в меня богобоязненную священную робость, так что я сам жажду вступить в тесную комнату того дома в предместье Неаполя, где всего лишь несколько лет тому назад совершилось чудо пробуждения этого юноши.
Слова аббата пробудили Крейслера ко всякого рода раздумьям: он вынужден был во многом признать их справедливость, однако он все же полагал, что в том, что касается величайшей набожности прежних времен и распущенности нынешних, устами аббата слишком уж говорит монах, который требует знамений, чудес, экстазов и в самом деле видит их, – монах, которого вовсе не устраивает детская набожность, благочестивая душа, которой чужды судорожные экстазы опьяняющего культа, а ведь наивное детское благочестие вовсе не нуждается в этом: оно и без того по-христиански добродетельно! А ведь именно эти добродетели никоим образом не исчезли в нашей земной юдоли, и если бы это могло действительно произойти, то тогда бы Предвечная сила, отступившись от нас и отдав нас в руки мрачного демона своеволия, не стремилась бы посредством чуда вернуть нас на путь истинный!
Однако же Крейслер оставил все эти соображения при себе и молча продолжал рассматривать картину. И все более выступали перед ним тогда черты убийцы на заднем плане – они делались все более отчетливыми, и Крейслер убедился, что живым оригиналом этой фигуры не мог быть никто иной, как принц Гектор собственной персоной.
– Думается мне, достопочтенный отче, – начал Крейслер, – я вижу там на заднем плане некоего храбрейшего вольного стрелка, который вознамерился поохотиться на самую благородную дичь, а именно – на человека, причем в этой охоте он применяет всевозможнейшие способы! На сей раз он, как я вижу, взял в руки