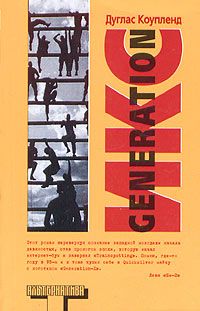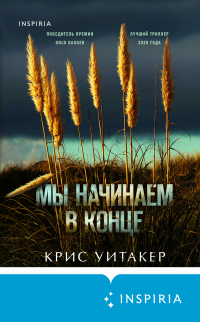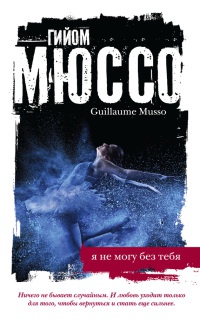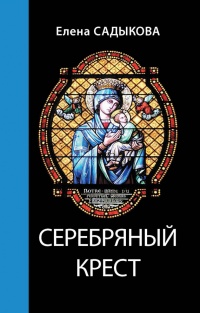Книга Лавочка закрывается - Джозеф Хеллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь, владея всем, чем он хотел владеть, и обитая в собственном доме, он был объектом зависти своих Морганов и Рокфеллеров. Его завораживающие кривые зеркала никогда не искривляли ни его, ни его билетеров.
Вернувшись как-то к себе в офис в конце дня после работы — хотя дней здесь и не существовало, а работы у него не было, — он нашел там мистера Рокфеллера. Он дал ему еще один десятицентовик и выставил его за дверь.
Эта ничтожная личность никоим, даже самым отдаленным, образом не ассоциировалась с комплексом деловых зданий в Рокфеллеровском центре и с овальной жемчужиной ледового катка. Из высокомерной записки, лежавшей на его шведском бюро, он узнал, что мистер Морган вернется, чтобы еще раз выяснить с мистером Тилью отношения в связи с его, мистера Тилью, новой политикой запрета на курение. Чтобы избежать столь скорой встречи, мистер Тилью снова снял с крючка на вешалке свой котелок, на котором не было ни пылинки. Он распушил лепестки цветка у себя в петлице; цветок этот всегда был свеж и всегда будет свеж. Энергичной походкой он заспешил из офиса к себе домой, тихонько напевая про себя восхитительную тему похорон Зигфрида, которая слышалась с его карусели.
Взбираясь на свое трехступенчатое крылечко, он слегка споткнулся о последнюю ступеньку, чего с ним не случалось раньше. На полке над двумя раковинами у окна своей кухни он обнаружил нечто странное. Уотерфордская хрустальная ваза с белыми лилиями выглядела совершенно обычно, но вода в ней таинственным образом стояла под углом. Минуту спустя он нашел плотницкий ватерпас и установил его на подоконник. От жуткого удивления мистера Тилью охватила дрожь. Дом стоял неровно. Недоумевая и хмуря брови, он снова вышел из дома. Глядя на крылечко, нижняя ступенька которого в вертикальной своей части несла его имя, он понял, что ватерпас ему не нужен — и невооруженным глазом было видно, что ступеньки перекошены, что накренилась и ведущая к ним дорожка. Горизонтальная линия строки, составленной буквами его фамилии, накренилась так, что нижние закругления последних букв уже скрылись из глаз. Он окаменел от беспокойства. Без его ведома и желания дом снова стал погружаться. Он понятия не имел, почему это происходит.
СЭММИ
По неизвестным ей причинам ее отец, казалось, не любил ее в детстве и не проявлял никаких более сильных, чем обычное приятие, чувств, когда она стала старше и вышла замуж. С ее братом и сестрой он был добрее, но не намного.
Она была старшей из трех детей. Мать уделяла ей больше внимания, но не могла смягчить атмосферу дома, в котором ведущую роль играл сдержанный и холодный супруг. Они были висконсинскими лютеранами и проживали неподалеку от Мэдисона, столицы штата, где зимой дни короткие, а ночи черные и длинные, а ветры обжигают холодом. «Он всегда был таким, — говорила в его защиту ее мать. — Мы знали друг друга с тех пор, как начали ходить в школу и церковь». Они были одногодками и оба потеряли невинность в первую брачную ночь. «Нас выбрали друг для друга наши семьи. Такие тогда были обычаи. Не думаю, что он когда-нибудь был по-настоящему счастлив».
У него был свой маленький бизнес — розничная торговля сельскохозяйственными продуктами, — который он унаследовал и расширил, и со своими работниками и поставщиками, относившимися к нему с приязнью, он шутил больше, чем дома. С чужими он обычно чувствовал себя свободнее. Нет, ничего лично против нее он не имеет, настаивала ее мать, потому что она всегда была хорошим ребенком. Но после смерти отца, тоже умершего от рака легких, обнаружилось, что по завещанию ей не досталось ничего, хотя трем ее детям он и оставил доли, которые в сумме равнялись тому, что было получено ее братом и сестрой; ей же он предоставил лишь полные опекунские полномочия. Она ничуть не была удивлена.
«А я и не ждала ничего другого, — говорила Гленда, вспоминая об этом. — Только не думай, что мне это безразлично. До сих пор горько».
В молодости ее лютеранин-отец, который не имел ни вкуса к музыке, ни склонности к танцам или к каким-либо другим увеселительным глупостям, нравившимся матери — на хэллоуин она делала маски и любила костюмированные вечера, — обнаружил природный дар к рисованию и живой интерес к конструкциям зданий и сложной архитектуре. Но эти так и не раскрывшиеся таланты были никому не нужны в суровых условиях сельской жизни, где доминировал отец еще более непреклонный, чем тот, которым в свое время стал он, где родители вели полную запретов жизнь, еще менее богатую событиями, чем его собственная. Ни у кого и мысли не возникло о колледже или школе искусств, и подавление этих склонностей, вероятно, сыграло критическую роль в становлении этой мрачной личности и причинило ему невыразимые страдания, сформировавшие свойства его характера. Только позднее смогла она понять это и время от времени испытывать к нему сочувствие. Скуповатый, осторожный, но не без крайностей, человек, он еще в начале семейной жизни заявил о своем честолюбивом желании отправить детей в колледж и дал понять, что будет доволен, если они не пренебрегут предоставленной им возможностью. Одна лишь Гленда воспользовалась этой удивительной щедростью, и он всю оставшуюся жизнь выказывал свое неослабевающее разочарование остальными детьми, словно они намеренно оскорбили и унизили его. Он был удовлетворен ее успехами в первых классах, но похвалы его носили критический характер и больше напоминали упреки, что почти не давало ей повода радоваться. Если она приносила домой контрольную по алгебре или геометрии, оцененную в девяносто баллов, вероятно, самой высокой оценкой во всем классе, он, неохотно выдавив из себя похвалу, спрашивал, почему это она не смогла решить одну из десяти задач. «А» с минусом вызывало у него вопросы о минусе, а просто «А» заставляло дуться из-за отсутствия плюса. В его серьезности не было и намека на шутку; ее воспоминания были суховаты.
Просто чудо, что она выросла такой веселой, уверенной в себе, знающей и решительной, а это как раз то, что и было нужно мне.
В начальной школе, получая некоторую поддержку от матери и воодушевляемая энтузиазмом младшей сестры, она смогла занять место капитана команды болельщиков. Однако, еще не преодолев тогда застенчивости, а может быть, будучи необщительной от природы, она никогда всей душой не отдавалась той бьющей ключом жизни, какую вели ее подружки в своем кругу, куда были вхожи школьные спортсмены и их восторженные почитатели. На множество вечеринок и всевозможных сборов она вообще не ходила. Она была на дюйм-другой ниже большинства своих сверстниц, с ямочками на щеках, карими глазами и волосами медового цвета; в молодости она была худенькой, но с заметной грудью. На свидания она ходила мало, главным образом потому, что чувствовала себя в таких случаях не в своей тарелке, и еще потому, что любые ее поступки давали отцу повод для раздражения. Он злился, если она отправлялась куда-нибудь одна, словно она была виновата в некой непристойности уже одним тем, что уходит; с другой стороны, если она вечерами или на уикэнды оставалась дома, он преисполнялся самоуничижения и обиды, словно им пренебрегали. Он произносил страшные пророчества, предостерегая ее от горьких искушений, которые будут всю жизнь преследовать ее, если она с ранних лет станет «одиночкой», как стал, по его мнению, он сам, от глупости, из-за которой она может упустить имеющиеся возможности, как это случилось с ним. Одиночка было одним из тех слов, которое он произносил особенно часто. Другим таким словом было — личность; он пришел к мрачному заключению, что человеку всегда должно причитаться больше, чем он получает. Ни она, ни ее брат или сестра не могли припомнить ни одного случая, когда бы он обнял их.