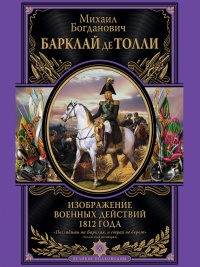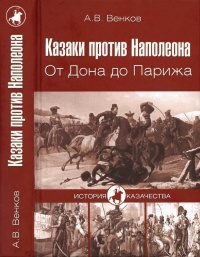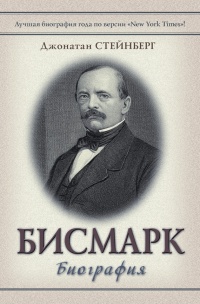Книга Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона III. 1870—1871 - Майкл Ховард
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Сначала нам запрещали под угрозой суровых наказаний разводить костры из сухой виноградной лозы, и горе было тому, кто набивал тюфяки необмолоченными колосьями! Детская невинность! Теперь никто не спрашивает, из чего ты раскладываешь костры – из заборов садов, или из дверей домов, или из крестьянских телег, и только безудержные идеалисты считаются с тем, чтобы ненароком не подбросить в огонь соломы с крыши деревенского дома, сами же французы уже не обращают на это внимания…»
Таким образом, за осень и зиму 1870 года терроризм «вольных стрелков» и репрессии немцев постепенно достигли новых глубин дикости. Если французы отказывались признать военное поражение, то следовало найти иные средства для подавления их воли к сопротивлению. С той же проблемой столкнулись и Соединенные Штаты, воюя с Конфедерацией шестью годами ранее, и Шерман решил ее неустанным маршем через Юг. Мольтке полагал, что суть войны состояла в движении армий, но американский генерал Шеридан, видевший войну не из кабинета при главной ставке, указывал, что это было лишь первым требованием победы.
«Надлежащая стратегия [объявил Шеридан после Седана] состоит в нанесении наиболее ощутимых ударов по войскам неприятеля, а затем в обречении мирного населения на такие муки, чтобы они стали жаждать мира и вынудили бы правительство просить его. Людям нужно оставить только их глаза, чтобы они могли рыдать от войны».
Бисмарк отнесся к этому совету куда серьезнее Мольтке. Чем больше французов пострадает от войны, указывал он, тем больше будет число тех, кто захочет мира любой ценой. «Дойдет до того, что нам придется перестрелять всех жителей мужского пола». Каждая деревня, требовал он, в которой совершен акт предательства, должна быть сожжена дотла и все жители ее повешены. Всякое проявление милосердия было бы «преступной ленью убивать». Письма Бисмарка и беседы в Версале переполняли именно такие идеи. «Несомненно, жестокость вполне сочетается с его инстинктами, – писал Бамбергер, – как я уже заметил в 1866 году. Предпочитаю действовать с помощью силы». Однако по поводу гнева Бисмарка следует отметить два момента. Во-первых, гнев этот был только на словах и никоим образом не распространялся на его действия. Французские переговорщики в Версале в январе 1871 года увидели в нем столь же хладнокровного и учтивого человека, как и в Ферьере в сентябре, и если ему докладывали о случаях проявления немцами актов жестокости, он наказывал виновных, причем с той же суровостью, с какой расправлялся с «вольными стрелками». Во-вторых, его высказывания ничем не отличались от тех, которые были в ходу у всех остальных штатских немцев. Даже Бисмарк выразил протест по поводу идей жены «пристрелить или проткнуть штыками всех французов, включая грудных детей», да и в немецкой прессе было полным-полно высказываний в том же духе. И сами французы не отставали от своих оккупантов, избирая для них новые и новые способы обречь на мучительную гибель. Обе страны были свято уверены, что именно они – цивилизованные люди, вынужденные противостоять варварам, которых можно принудить к подчинению лишь прибегнув к грубой силе. Сорок четыре года спустя, в 1914 году, эта убежденность вновь возродилась в еще более катастрофических масштабах.
Общеизвестно, что Гамбетта не рвался выпрашивать мир после падения Орлеана – правительство находилось в Париже, и его действия были продиктованы не военной необходимостью, а давлением со стороны «политических клубов» крайне левого толка. И все же Гамбетта расценивал падение Орлеана и поражение его войск не более чем досадный эпизод. Французские армии были побеждены, но не уничтожены, позиции делегации в Туре были шаткими, и 10 декабря ядро правительства переместилось в Бордо, но никто не подвергал сомнению факт того, что война должна продолжаться и что в кратчайшие сроки необходимо подготовить еще одно наступление. Д’Орель де Паладина, который отступил вместе с остатками 15-го корпуса в Сальбри, сделали козлом отпущения за потерю Орлеана, и его главнокомандование было отменено. Армия так и должна была оставаться разделенной на те две части, на которые ее разделили силы Фридриха Карла. Генерал Шанзи должен был сохранить пост командующего 16-м и 17-м корпусами и отступить вдоль северных берегов Луары, в то время как 15, 18, и 20-й корпуса, в результате стремительного отхода оказавшиеся на юге, были объединены во вторую армию, командование над которой принял Бурбаки (до 27 декабря в составе Луарской армии, затем так называемая Восточная армия).
Только 6 декабря Гамбетта узнал о поражении Дюкро, а до этого верил, что войска Парижа направляются на юг для соединения с Луарской армией, и ничто, даже утрата Орлеана, не могло заставить его отказаться от намерения атаковать пруссаков. 5 декабря Бурбаки и Пальер, проводя свои спешно отступавшие войска через Луару, получили приказ сосредоточиться в Жьене и нанести удар в северном направлении на Фонтенбло, в то время как 16-й и 17-й корпуса должны были вернуть Орлеан. Генералы были ошеломлены этими приказами. Их войска, как они указали, были предельно измотаны и понесли существенные потери, и подобные операции были вне рассмотрения. На сей раз их протесты были приняты. Гамбетта в ходе поездки в Сальбри сам убедился в состоянии 15-го корпуса и понял, что командующие не пытаются ввести его в заблуждение. В любом случае известия о неудаче Дюкро сняли с повестки дня вопрос о срочном наступлении. Поэтому 7 декабря Гамбетта уполномочил Бурбаки отойти в Бурж, где он должен был принять командование 15, 20 и 18-м корпусами, встать там на отдых и для пополнения личного состава, но, «как только вы получите все необходимое, – добавил Гамбетта, – считаю, что вы действительно готовы к решительным действиям». Пальер, как только его солдаты оказались в безопасности в Бурже, отказался от командования. Ничто, заявил он, не заставит его и дальше оставаться «в распоряжении военных фантазий телеграфа из Тура».
Пока Бурбаки возвращался в Бурж, Шанзи занимался переформированием своей армии у Луары близ Божанси. Было несколько причин, почему его войска должны были быть в лучшем состоянии, чем силы Бурбаки. Они не испытали в полной мере удара немцев, как 15-й корпус, и не были деморализованы и измучены длительным отступлением, как 18-й и 20-й корпуса. Но все причины бледнеют в сравнении с компетентностью и яркой индивидуальностью самого Шанзи. Как большинство его коллег в Луарской армии, Шанзи с запозданием прибыл из Африки и был назначен на командную должность в войсках империи до окружения их в Меце и Седане, но, в отличие от своих коллег, он не был обескуражен состоянием личного состава, которым теперь был назначен командовать. Шанзи не пытался втиснуть своих плохо обученных и только что пришедших с гражданки солдат в рамки регулярной армии, но и не стал от них отказываться. Шанзи понимал, чего от них ожидать и как этого добиться: если другие командующие доводили своих солдат до того, что те просто разбегались, Шанзи чувствовал момент, когда они могли дать врагу отпор. Шанзи был, вероятно, единственным из генералов, кто никогда не позволял себе усомниться в возможности окончательной победы. До самого конца войны он без устали ковал планы и был убежден в их осуществимости. Генерал уже имел возможность не раз проявить себя способным вдохновить своих солдат. Он мог повести их в атаку, однако в полной мере его незаурядный талант раскрывался в умении ждать, в терпении, решимости и стойкости в бою, что и позволило его войскам в течение долгих семи страшных недель в зимние холода организованно отступить с минимальными потерями. Шанзи заслуживает куда большей похвалы, нежели многие из тех, чьи имена красуются в списке самых выдающихся маршалов и других военачальников Франции, но всегда бывает так, что держава помнит только тех, кто вел ее к победам, но никак не тех, кто отдавал себя тому, чтобы облегчить для нее горечь поражения.