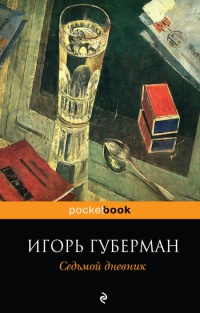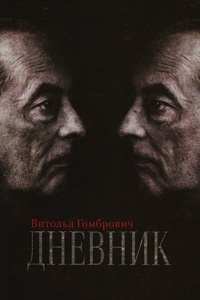Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мой Гамлет — от Блока. А закрепил чувство к нему — раз и навсегда — конечно! — Пастернак.
Сначала были стихи из романа, потом уже сам роман, еще даже не книгой, а перепечатанный на машинке на огромном количестве уже зачитанных кем-то до меня страниц.
Мне роман открывал тогда нечто большее, чем правду или неизвестность, он распахивал огромное окно. Книга не просто читалась — она гудела, как даль и как близь, в распахнутом окне.
Природа и история — главные герои этой попытки эпоса. История старается не уступать природе в значительности, но ничего не может поделать с ее красотой.
“Пастернак — мыслитель, создатель «лирического учения», скрытой невысказанной философии… еще не обдуман. Можно сказать больше: он даже не выслушан”.
Я думаю, что Пастернак не так уж часто зашифровывал в “Живаго” какие-то тайные смыслы. Он, вообще-то, говорил достаточно открыто то, что хотел сказать.
Конечно, он разделил себя на всех и вложил свою — по-настоящему не выслушанную даже Ахматовой — невероятную лекцию о природе и истории, о духе, о России, о любви, — в уста разных персонажей.
Вопреки пошлости, называемой правдоподобием, он так сдвигает, сталкивает людей в одном силовом поле своей идеи, что это становится под его пером абсолютной и безоговорочной реальностью, понятой гораздо шире, чем “реализм”.
Настоящий роман — это всегда явление, выходящее и распространяющееся далеко за пределы своей формы. Как “Дон Кихот”. Как “Улисс”. В этом смысле — “Евгений Онегин” и “Борис Годунов” тоже романы.
Пушкин ведь не зря так и назвал: “роман”. А Гоголь “Мертвые души” — “поэма”. Мне кажется, в этом была какая-то высшая полемика с Пушкиным.
Есть три великих формальных открытия, сформулированных в одном лишь слове подзаголовка: “Евгений Онегин” — роман, “Мертвые души” — поэма, пьесы Чехова — комедия.
Вот, кстати, в чем еще разница между Гоголем и Пушкиным. У Гоголя редкая птица долетит до середины Днепра. А у Пушкина комар море перелетает, чтобы батюшку ро́дного повидать.
После “Онегина” — романа о личности, о приключениях личности, ее души — у нас, пожалуй, и не было. Продолжил эту линию скорее западный роман. От Пруста до Хемингуэя. И происхождение “Живаго”, на мой взгляд, тоже от этого корня. Упоминание в его черновиках “Евгения Онегина” это подтверждает.
Какая радость, какое счастье, что можно умыться языком “Живаго”. Только умыться, потому что подражать этому невозможно.
Наброски из ненаписанного романа
А уже вовсю — за границей Эльсинора — варилось, кипело безумное общее мясо с плачущими — от непонятного им самим горя — глазами и разверстыми в диких криках ртами.
И тут, покрывая общий рев, заорал паровоз…
“Паровоз серии СО («Серго Орджоникидзе»).
Год постройки паровоза — 1934. Изготовитель — Харьковский, Брянский, Ворошиловградский, Красноярский и Улан-Удэнский заводы. Общая масса паровоза — 97 т. Конструктивная скорость — 75 км/ч. Давление пара в котле — 14 кг/см в кубе…”
Наброски из ненаписанного романа
— Шибче, шибче, ешь вашу клешь! Поспешайте, братва! — ругался и похохатывал паровоз. — Коли уж я взялся вас свезти куды надо — свезу в лучшем виде, миколка свое дело туго знает!
Смолкнув и на мгновение застыв, толпа рванула к нему. Сашке было страшно, но он был не один. Их было много, и они давили и ломали друг друга, но он был сейчас не один. Рядом с ним толпа давила и несла вперед женщину, старую и необычайно красивую — как королева.
— Ты куда, старая? — орали ей в ухо. — Тебе не туда, тебе на кладби́ще!
— Мы так близки были в последние годы, — сдавленная со всех сторон, отвечала спокойно старуха. — Я должна с ним попрощаться.
— Ты? С ним? Да с кем?
— Как с кем? С Пушкиным!
— Сдурела, старая? Сталина хороним!
— Это вы Сталина хороните, — старуха холодно. — А я с Пушкиным прощаюсь.
“В 1937-м в юбилейные дни соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на Пушкинской улице в Ленинграде. Послали грузовик, кран — вообще все, что полагается в таких случаях. Но затем произошло нечто беспримерное. Дети, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой вой, что пришлось позвонить куда следует и спросить:
«Как быть?» — Ответили: «Оставьте им памятник», и грузовик уехал пустой.
Февраль 37 года — [полный расцвет] ежовщины.
Можно с уверенностью сказать, что у доброй половины этих малышей уже не было пап (а у многих и мам), но охранять дядю Пускина они считали своей священной обязанностью”.
Наброски из ненаписанного романа
Осажденный со всех сторон — словно размножающимся на глазах — страшно гудящим человеческим роем, карабкающимся, цепляющимся, падающим, — опешил паровоз — общая масса 97 т, — поразился до глубины души проявлением такого искреннего общенародного горя.
— Мне самому очень горько, еще бы — такой матерый человечище ушел из жизни, — заговорил он. — Целиком разделяю вашу скорбь, товарищи. Но я вам не резиновый…
И предупредительно пыхнул в небо паром.
В молодости я не боялся опоздать, или что поезд уйдет без меня, самолет улетит. Азарт, легкость, пренебрежение. “А, плевать. Уеду следующим! Улечу! Время есть”.
Я помню, как мы с Авербахом подтрунивали над нашим любимым Стариком, когда он уезжал из Ленинграда в Москву.
Звонок:
— Пашка, скажи Илюше, я готов, он может ехать за мной в гостиницу.
— Евгений Иосифович! Сейчас семь часов, до “Стрелы” еще…
— Слушай! Ну и что? Мало ли что может случиться?
Наверное, он понимал — а нам было невдомек, — что следующего поезда может не быть и другой самолет может не взлететь.
Теперь это понимаю и я.
Наброски из ненаписанного романа
Притиснутый к вагону, Сашка, бледный, уж и дышать не мог. А паровоз уже всерьез пыхтел и собирался. Отчаяние и страх охватили Сашку. Остаться? Назад ведь дороги нет.
Человек, обуреваемый страхом, становится еще более одиноким. Человек хочет поделиться страхом, но его никто не понимает.
— Эй, мало́го пропустите! — чей-то голос-приказ сверху, из тамбура. — Задавят!