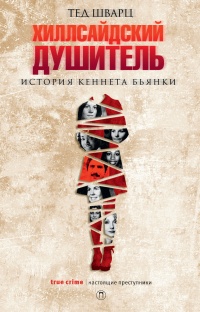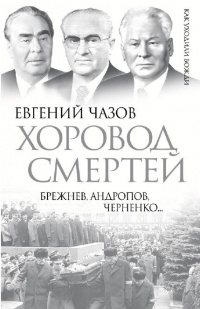Книга Позвонки минувших дней - Евгений Шварц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вчера состоялась премьера «Двух кленов»[151]. Успех был, но не тот, который я люблю. Мне все время стыдно то за один, то за другой кусок спектакля. Возможно, не я в этом виноват, но самому себе этого не докажешь. Видимо, с ТЮЗом московским, несмотря на дружеские излияния с обеих сторон, мне больше не работать. Тем не менее и успех, и атмосфера успеха имелись налицо, и даже в ресторан ВТО пошли мы небольшой компанией с Чуковским, и Рыссами, и Тусей, и Даней. И режиссером, и Якушкиной. И сегодня проснулся я без горестных ощущений. Потому что, уезжая, ждал я худшего. Уезжая из Москвы в прошлый раз. Сегодня в три часа мне предстоит встреча с Лобановым. После этого только решу я, когда мне ехать: сегодня или подождать немножко. И побывать завтра у Кавериных в Переделкине. Не знаю, чего мне хочется. Сейчас без четверти двенадцать. В коридоре уборщицы разговаривают, бренчат ведрами, звенят ключами. Солнце то покажется, то скроется. Номер у меня длинный, крошечный, причитающаяся ему мебель еле умещается. Письменный стол до половины против кровати. Полшага между ними. Позади кровати столик с телефоном и высокой настольной лампой с оранжевым абажуром, длинная бахрома которого мешает, когда читаешь ночью. Приходится класть лампочку на стул возле кровати, а бахрому откидывать. Между кроватью и дверью — массивный, не по номерку, шкаф с зеркальной дверцей. Против него вделана в стену умывальная фаянсовая раковина. Над ней — большое квадратное зеркало. На письменном столе, кроме пластмассового письменного прибора, — два чайника: большой никелированный и малый фарфоровый. Я могу сбегать к титану за кипятком, если захочу. Кроме того, стоит против меня стеклянный кувшин и целых три стакана. Стол покрыт стеклом. Вот и всё.
Тетрадь эта перестает быть помощником. Напишу две страницы — и совесть спокойна. В прозе я чувствую себя, как и прежде, не свободным. Свободу, подобие свободы, приобретаю, только оторвавшись от самого себя, от себя лично, рассказывая о людях более или менее близких. О совсем близких говорю также связанно, как о себе самом. Словом, нужно отказаться от прозы или найти новый способ упражнений, кроме этого, успокаивающего совесть. А отказаться от него, от этого вида прозы, как будто и жалко. Через мое неумение иногда вдруг выступает и правда…
Был сегодня в городе на премьере «Гамлета» в постановке Козинцева[152]. Временами понимал все, временами понимал, что не хватает сегодня сил для того, чтобы все понять. Поставлена пьеса ясно и резко, с музыкой, ударами грома, с подчеркнутой пышностью декораций на огромной сцене. Я давно не был в театре. Понимать Шекспира — это значит чувствовать себя в высоком обществе, среди богов. И я временами наслаждался тем, что до самой глубины без малейшей принужденности чувствую то, что происходит на сцене…
Второй день идет снег, отчего на душе еще неопределенней. Был вчера у Козинцева[153]. (Мы вечером приехали в город.) Он все тот же. Он не ограничен. Никак. Но границы его резко очерчены. Он не то что не может, а не хочет переходить за них. Черта здоровая. Но все тот же матовый, дневной, более джентльменский, чем у Акимова. К этому основательное знание Шекспира и нелюбовь к Мольеру, что подтверждает мое предположение о склонности человека к писателям, которые поражают его, непонятны ему своей противоположностью. Вернувшись от Козинцева домой, я совсем было заболел. Удивился даже. О своих болезнях я обычно молчу, а тут пришлось попросить валидола. За этот год я постарел. Непривычно и то, что нет у меня сейчас отложенной работы. От этого неопределенность на душе растет. После того как в Москве испытал я подобие успеха и «Медведь» был как бы принят в два театра — сейчас затишье. И на душе тревожно…
Не хочется читать, и я решил закончить эту счетную тетрадь, семнадцатую из начатых в Кирове двенадцать лет назад[154]. По- настоящему я взялся за них в пятидесятом году, — до того заполнил я не полностью три, а с тех пор веду к концу четырнадцатую, и удивляюсь, и все не могу налюбоваться. Впервые в жизни мне удается пересилить себя и что‑то делать ежедневно. И страсть к чтению едва — едва, постепенно — постепенно заменяется склонностью к писанию. Я отвожу старательно мысли о старости. Я начал поздно и хочу кончить как можно позже. И я стал писать лучше — чего же мне думать тут? Иной раз я думаю, что, может быть, эти ежедневные записи и вредят. Мне иной раз кажется, что обрывки — не дело. Если не объединишь в целое, в единую форму, то все равно что и не рассказал ничего. А иной раз я думаю, что форм куда больше, чем кажется. Самый большой успех в театре пережил я четырнадцать лет назад, как раз в апреле — прошла «Тень» у Акимова. Сила очень определенная, но не знаю, добрая или злая, спешит всегда отрезвить меня. После генеральной репетиции от пяти часов дня до вечера я верил в полную победу и был счастлив.
Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятным, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристоен и старается быть правдивым…
Сегодня четыре года, как ведутся мои счетоводные книги, а едва оторвусь я от описания характеров людей, так или иначе со мной связанных, так и теряюсь. Причем люди эти не должны быть близкими. Близких описывать не хватает трезвости. Но так или иначе — я втянулся в эту работу, и, стараясь сохранять бесхитростность, переходящую в серость, и запрещая себе зачеркивать, чтобы видна была фактура, черновик с его непроизвольной правдивостью, пишу я каждый день. И даже уезжая. А для меня это чудо, чем дальше оно продолжается, тем больше я удивляюсь и утешаюсь. И когда приближался к четвертой годовщине, то считал: вот я пишу ежедневно уже четыре года без двадцати дней, без трех дней и так далее. Все это хорошо, но каждая поездка в город для меня полна событий, и я все думаю и живу в полную силу. А записать не умею именно потому, вероятно, что живу в полную силу. Представления мои, и веселые и печальные, до того бесформенны, что рассеиваются, не оставляя следа. Нет, все‑таки передаю я себя полностью, бродя и праздномысля или когда пишу пьесы. В этом последнем случае форма сама дается.
Новый заместитель министра культуры — Охлопков, режиссер и артист лет пятидесяти с лишним, седой, густоволосый, аккуратно подстриженный, в кремовом костюме, загорелый, голова в ширину шеи, небольшая, что часто у людей рослых подобного склада. Небольшой нос, толстые губы — своеобразное, очень русское, а может быть, и деревенское лицо. Ощущение простоты, ощущение значительности, впрочем, скорее биологического характера, исчезает, едва начинает он говорить. Своеобразие облика полностью подчиняется, нет, полностью расплывается под ливнем чисто актерско — режиссерского красноречия. Весь жизненный опыт приучил его к тому, что, поговорив перед началом работы вот на такой приблизительный, мнимо значительный, развязно — распущенно — поэтический лад, приводишь актеров в размягченное, пластическое состояние. И лепишь из них что требуется. А если и не приведешь их речами своими в такое состояние, то все равно так или иначе в конце концов добьешься своего. В постановках своеобразие и значительность охлопковского облика оживают… Другое дело, когда речь подобной разновидности произносится государственным деятелем. После нее не приступишь к постановке. Начал вчера министерский работник, крупнейший министерский работник, заместитель министра — с той актерской простотой, что порождена системой Станиславского и тревожит слух более тонко и глубоко, чем открытый и наивный актерский пафос. Правильнее было бы сказать не «тревожит», а оскорбляет слух. Жарко. В просмотровом зале нечем дышать. А замминистра говорит час, два, и не видно конца его речи. Этот вид красноречия не имеет формы, и угадать, когда умолкнет этот здоровяк в кремовом костюме, нет возможности. Несколько сценаристов, режиссеры, директора картин, операторы молча и дисциплинированно обливаются пбтом. Начал замминистра с того, что говорить он не будет, а кончил извинениями, что занял своим выступлением все время, отведенное для собрания, и выслушает наши претензии, для чего он и собирал нас, в следующий приезд. В промежутке услышали мы, что когда провожал он молодежь на целину, то испытал чувство, которое легче передать не скрипкой, а виолончелью, что искусство требует разнообразия.