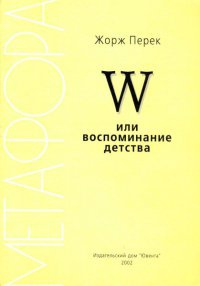Книга Жилец - Михаил Холмогоров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Главенствовали там передовицы производства – дородные тетки, которые таскали домой все, что только можно было украсть, но молодым не дозволялось и шоколадной крошки схватить. Почти не таясь, эти ударницы социалистического труда ополовинивали нормы коньяка и рома, предназначенные для подарочных наборов, и все им сходило с рук. Молодыми же помыкали нещадно.
Майя все искала своего отца, выспрашивала о нем всех, кого можно, и в одном доме ее познакомили с каким-то важным человеком по фамилии Лисюцкий, который пообещал ей помочь, а через неделю вызвал ее в тот же дом, где они познакомились, попросил оставить их одних и ошарашил девушку внезапным вопросом:
– Что ж вы не сказали, что ваши родители репрессированы?
– А что это такое – ре… репрессированы? – Майя едва управилась с незнакомым словом.
– Отвечаю. Я навел справки по своим каналам. Ваш отец был арестован и осужден как враг народа. Судя по вашему вопросу, вы не ввели меня в заблуждение, а на самом деле ничего не знали. Советую на будущее – никому никогда никаких вопросов об отце не задавать.
И только сейчас выяснилось, что Майин папа – ни мало ни много бывший Председатель Совнаркома Украины. Когда Майиного отца реабилитировали, она уехала в Киев, и больше ни слуху ни духу о ней не было.
* * *
Сева был не умный – умнеющий. И процесс набирания разума резко ускорился.
В школе появился молодой рыжий учитель. Он вел в десятом классе литературу, а до седьмого докатились отголоски его славы. Дескать, уроки ведет – заслушаешься, но на опросах свиреп, как лев. Вздыбленная грива увеличивала сходство с царем зверей, несколько подмоченное очками с мощной диоптрией.
А первого же сентября этот очкастый лев явился в Севин класс.
Звали его Марк Аронович Штейн.
Начал он весьма необычно, хотя тема вроде ни к каким неординарным поворотам не подводила. Литература, сказал он, от латинского «литера», буква. И все, что написано буквами, уже есть литература. Тут же показал в окошко – на стене противоположного дома мелом начертано: «Саша + Таня = любовь». Вот это уже литература. Но мы ее изучать не будем. Это не художественная литература. Это, скорее, послание потомкам, если оно сохранится, как берестяные грамоты в Новгороде. Потом он стал говорить, что по литературе лучше вести толстые, общие тетради и писать на одной стороне. Вторая, левая, – для заметок по поводу.
Севины руки в момент сосредоточенности не знали покоя. Вечно он рисовал какие-то углы, рожицы, самому неведомые иероглифы, а то вдруг – паровоз и длинную цепь вагонов. Марк Аронович, объясняя, ходил по рядам вдоль парт и как бы в подтверждение мысли, как все же надо вести эти тетрадки, продемонстрировал на весь класс Севину – с рожицами, углами, иероглифами и паровозом.
Взрыв хохота не обидел, тут была добродушная ирония, и с этого момента Сева полюбил учителя. Хотя причины для любви проявятся позже, когда дело дойдет до Новикова, Фонвизина и Радищева. Литература восемнадцатого века совпадет по времени со скандалом вокруг романа Дудинцева «Не хлебом единым». Бывают моменты, когда произведения сомнительных художественных качеств, проповедовал тогда Марк, пробуждают общество с такой силой, что след, оставленный ими в истории, оправдывает все литературные слабости. В пример привел радищевское «Путешествие…», роман Чернышевского «Что делать?» и это сочинение Дудинцева. Судьба Симонова, изгнанного из редакторов «Нового мира», пошла в историческую параллель с судьбой Новикова.
Когда дело дошло до «Горя от ума», класс убедился, что не умеет читать. Марк Аронович вызвал старательную Леночку Лузянину, и та бойко оттарабанила по учебнику что-то о Чацком – выразителе чаяний декабристов.
– Очень интересно, – резюмировал Штейн. – Стоит, правда, заметить, что есть разные точки зрения на сей счет. Вот Александр Сергеевич Пушкин полагал, что Чацкий… как бы вам помягче выразить… что он просто-напросто неумен.
И прочитал притихшему от изумления классу отрывок из известного письма Пушкина Бестужеву. Потом он предложил такую игру: отметить фразы, ставшие пословицами, и посмотреть, из чьих уст они вылетели. Таково было задание на дом.
Задачка, однако. Справившись с нею, Сева обнаружил, что речь Чацкого не так уж богата афоризмами – «Я глупостей не чтец…», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «Карету мне, карету!» Вот, пожалуй, и все. Зато у Фамусова что ни слово – золото. Тут Сева уперся в стену. Чацкий ему намного симпатичнее, хоть и не признал за ним Пушкин ума, а Фамусов с его мудростями… Ну о чем тут говорить.
Первую пятерку у Штейна Сева получил как раз за то, что простодушно признался в неразрешимости задачи. Урок превратился в дискуссию до хрипоты, разве что не обзывали друг друга подлецами и оглашенными придурками. Только под конец, когда пар вышел, Марк Аронович подвел итог.
Он расставил уйму пятерок и сказал, что удовлетворен тем, как ребята глубоко проникли в текст грибоедовской комедии. А фамусовские пословицы потому и вошли в русскую речь, что они – плод житейской мудрости, выработанной задолго до Фамусова. Это правила приспособления к режиму. Хороши или плохи – другой вопрос. Они крепки, и с налету, эмоциональным порывом такую крепость не возьмешь. Заодно Штейн дал понять, что такое истинная литература – это та литература, где каждый персонаж защищен логикой своего поведения и тем самым психологически оправдан. И предложил факультативно прочитать «Гамлета» и провести параллель между мнимо сумасшедшим принцем и Чацким и грибоедовской Софьей и Гертрудой. Факультативно – значит, не обязательно, и к следующему уроку только Сева и прочитал «Гамлета». А параллели в самом деле интересные, и мысли, ими вызванные, догоняли Севу много лет спустя.
Дальнейшие отношения со Штейном у Севы были не из гладких – Марк Аронович был классным руководителем, а Сева, он ведь из отпетых двоечников, и в классе, где ценились наглядные успехи, был где-то в социальных низах. Место внизу было завоевано еще в ту пору, когда ценились не отметки (до шестого класса они у Севы были сносные), а физическая сила. И хотя поставить себя в классе Сева до конца школы так и не сумел, но с того памятного урока Сева почувствовал твердую почву под ногами. Иногда даже удавалось доказать свое превосходство над всеми. Где-то к концу года вспыхнул спор о том, что интереснее читать – реалистическую прозу или романтическую, полную приключений в путешествиях и войнах. Сева один выстоял против всего класса: он давно задвинул в дальний угол Жюля Верна и недочитанного Гюго. «Обыкновенная история» Гончарова, освоенная вслед за «Героем нашего времени» и излечившая от позерства, показалась куда как интереснее. Хотя класс решил, что Сева просто хочет понравиться учителю.
Экая чушь! Только позавчера Ароныч испортил мамин день рождения. В самый разгар праздника он позвонил и целый, наверное, час ябедничал на Севины двойки по английскому, физике и геометрии. Мама вернулась бледная и вместо вина принимала валерьянку. А все гости позорили Севу, его непроходимую лень и безответственность. Даже дядя Жорж – и тот смотрел на племянника с укором.