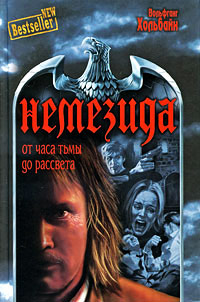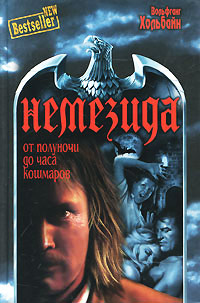Книга Анубис - Вольфганг Хольбайн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Профессор?
Могенс удержался от искушения бросить гневный взгляд на Грейвса, сидевшего по другую сторону захламленного стола. В этом не было смысла — густые сизые облака сигаретного дыма, из которого Грейвс за этот час возвел непроходимую стену, он все равно не смог бы пробить взглядом. Грейвс беспрестанно и много курил. Даже с точки зрения терпимого человека, считающего, что курение хоть и является дурной привычкой, однако дело каждого решать, на какой манер отдать концы, с тех пор как они пересекли порог этого дома, он дымил чересчур. Могенс гадал: что это, признак нервозности? Или Грейвс знает, что через несколько часов ему вообще не придется курить, и напоследок сладострастно предается своему пороку? Хотя, возможно, и то и другое.
Могенс демонстративно неспешно закрыл часы, аккуратно убрал их в карман и на незаданный вопрос Грейвса ответил, только выждав еще пару секунд:
— Разумеется, я нервничаю. А ты разве нет?
Грейвс покачал головой, по крайней мере, Могенс именно так расшифровал смутное движение за густым облаком чада.
— Не думаю, — ответил он. — Я хочу сказать, что, по твоему мнению, должен. Но я чувствую себя… как-то особенно.
— Особенно? — Могенс удивленно поднял брови. — Я бы на твоем месте испытывал страх. Гораздо больше, чем я на своем.
Грейвс тихонько засмеялся:
— Растолкуй яснее.
— Думаю, ты лучше меня знаешь, что ждет нас там, внизу. По крайней мере, надеюсь, что знаешь.
— Боюсь, должен тебя разочаровать. Нечто великое, в этом я уверен. Однако большего и я не знаю. Но ближе, чем теперь, я еще никогда не подступался к тайне всех времен. А чтобы быть честным, скажу: конечно, мне страшно. Я бы не был человеком, если бы не боялся.
«Что касается степени твоей человечности, — подумал Могенс, — это вопрос для долгой дискуссии. Но не сейчас». Он поймал себя на том, что его рука снова тянется за часами, и поспешно отдернул ее. Грейвс тем не менее, заметив его жест, усмехнулся:
— До полуночи еще около трех часов. Почему бы тебе не пойти к себе и немного поспать. Том разбудит тебя ко времени.
— Поспать? А ты бы на моем месте заснул?
— Я и на своем-то не могу спать, — сыронизировал Грейвс, снова затягиваясь сигаретой. На мгновение через плотную завесу дыма вспыхнула красная точка и снова погасла. — Может, тогда партию в шахматы?
— В шахматы? — не поверил своим ушам Том. — Ты сейчас можешь играть в шахматы?
— Почему бы и нет? Мне знакомы люди, которые предпочитают каждые две секунды пялиться на часы. Шахматы кажутся мне куда лучшим способом убить время. Успокаивают и оттачивают мышление. И то, и другое тебе сейчас не повредит.
Он и не подумал дожидаться ответа, встал, подошел к небольшому комоду и вернулся с обтянутым кожей футляром, из которого вынул шахматную доску с искусной резьбой и резные фигуры. Хотя каждая из них и была величиной с мизинец младенца, она представляла собой истинное произведение искусства. Был в них лишь один небольшой изъян.
— Фигуры… — пробормотал Могенс.
— А что с ними? — спросил Грейвс, расставляя со своей стороны сначала ладьи, а потом и остальные фигуры.
— Они белые!
— Конечно. Они же вырезаны из слоновой кости. — Он явно развлекался.
— Но они все белые!
— Слоновая кость всегда белая, — издевался Грейвс дальше.
— А как играть, когда не различить, где твои, а где противника?
Грейвс закончил свое дело, наклонился вперед и принялся расставлять фигуры со стороны Могенса. Могенс наблюдал за движениями его пальцев со смешанным чувством завороженности и брезгливости. Он и теперь не смог бы сказать, что именно в этих движениях не так, но несомненно было одно: человеческие пальцы не могут и не должны двигаться подобным образом. «С такими пальцами, — вдруг пришло ему в голову, — Грейвс мог бы сделаться отличным шулером».
— Ты полагаешь, друзей от врагов отличать легче? — осведомился Грейвс. — Как это бывает в реальной жизни. — Поставив последнюю фигуру, он плюхнулся в свое кресло. — Это особенные шахматы, Могенс. Они очень древние и очень ценные, но не только по этой причине, не ради хвастовства я вынул их, чтобы сыграть с особенным человеком.
— Да? И по какой же еще?
— В них есть различия. Надо только приглядеться. А еще требуется хранить в памяти каждый ход, который ты сделал. Совсем как в реальной жизни. — Он повел рукой. — Ты начинаешь, Могенс. У тебя белые.
Могенс всерьез задумался, стоит ли затевать это дурацкое состязание и не разумнее ли будет просто встать и уйти. Одна его часть была готова поддаться, но другая — и к тому же большая — удерживала от соблазна. Тем не менее он придвинул стул и склонился над крошечными фигурками, чтобы получше их рассмотреть.
Грейвс оказался прав: небольшие отличия имелись, хотя, по соображениям Могенса, и недостаточные, чтобы различить фигуры на игровом поле, когда они вступят в борьбу. Но что он, в конечном счете, теряет? Разве что время, которое и без того тянется мучительнее, чем бессмысленная игра.
Он начал классическим ходом, передвинув пешку на две клетки вперед. Грейвс поморщился и ответил тем же. К своему удивлению, уже через несколько ходов Могенс втянулся в игру настолько, что партия не только захватила его целиком, но он еще и исполнился решимости ни в коем случае ее не проиграть. Раньше, в университете, они с Грейвсом часто сражались в шахматы, правда, на нормальной доске и правильными фигурами; и девять из десяти партий Могенс выигрывал. Но ведь не все. И те немногие поражения, которые наносил ему Грейвс, были стремительны и молниеносны, все без исключения. Грейвс принадлежал к числу игроков, чьи действия нельзя предугадать. В принципе, он играл не очень хорошо и, уж конечно, не творчески — что касается шахмат, — но при этом был склонен к таким шагам, которые сбивали противника с толку или вообще захватывали врасплох. «Но больше ему сделать это не удастся!» — решил Могенс.
Однако его ждал сюрприз, к тому же малоприятный. За эти годы Грейвс явно набрался опыта. Играл он, конечно, не как гроссмейстер и тем не менее много лучше, чем Могенс помнил. Как он и ожидал, стало гораздо сложнее, когда фигуры на доске перемешались. Чтобы запомнить расположение каждой из шестнадцати фигур, Могенсу пришлось напрячь большую часть своих извилин, и то не с безусловным успехом. Пару раз Грейвс качал головой, молча, но с ядовитой улыбкой, когда он брался не за ту, таким же образом, только когда делал противоположную ошибку, он потерял коня и три пешки. И тем не менее ему удавалось теснить Грейвса медленно, но неумолимо. После двадцати или двадцати пяти ходов сомнений в исходе партии не оставалось. Он предложил Грейвсу ничью, но тот гордо отклонил предложение:
— Никогда нельзя сдаваться, пока игра не доведена до конца. Эта максима давно стала моим принципом. Без нее меня давно бы не было в живых.