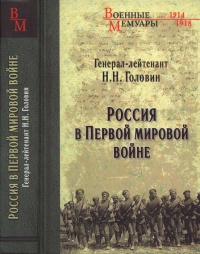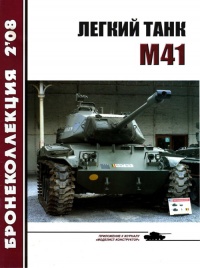Книга Восточно-западная улица. Происхождение терминов ГЕНОЦИД и ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - Филипп Сэндс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наконец в последний день августа обвиняемым была предоставлена возможность обратиться к суду. Первым выступал Геринг, он заступался за немецкий народ, говорил, что народ свободен от вины, и при этом утверждал, что и ему самому не были известны ужасные факты{633}. Гесс, как всегда, бормотал что-то непоследовательное, но все же сумел достаточно оправиться, чтобы заверить судей: доведись ему начать все сначала, он бы «действовал в точности так, как действовал»{634}. Далее произнесли последнее слово Риббентроп, Кейтель и Кальтенбруннер, за ними Розенберг, который, к удивлению Лемкина и многих других, признал геноцид преступлением, однако преступлением, которое защищало немецкий народ как группу{635}. Одновременно он отрицал собственную причастность к геноциду или каким-либо другим преступлениям.
Седьмым по счету выступал Франк. Многие в зале № 600 гадали, как он выскажется, вернется ли к первоначальному признанию частичной ответственности. На этот раз Франк заявил, что все подсудимые отвернулись от Бога, не представляя себе последствий этого. В результате он сам «все более и более погружался в вину»{636} и даже порой чувствовал, будто духи умерших проносятся по залу суда, миллионы, погибшие «без суда и следствия». Франк надеялся, что ему на руку сыграет решение не уничтожать дневники и добровольная «выдача» их в последний момент, когда он утратил свободу.
Вернувшись к теме коллективной ответственности, которую он затрагивал несколькими месяцами ранее, Франк сказал, что не желает «оставлять после себя в этом мире какую-либо скрытую вину, за которую не ответил». Да, он несет ответственность за определенные дела. Да, он признает «определенную степень вины». Да, он был «поборником Адольфа Гитлера, его движения и его Рейха».
А дальше последовало «но», чрезвычайно широкое, всеохватывающее. Франк чувствовал потребность вернуться к тому, что было сказано в апреле, к словам, которые тревожили его и нуждались в исправлении. Речь шла о «тысячелетии» – о слове, за которое уцепились и Джексон, и Шоукросс, и прочие обвинители, но Франк осознал, что его неправильно поняли. Он подумал и понял, что поступил неосторожно и впал в заблуждение, произнеся эти слова. Прошло некоторое время, и он увидел иную реальность, ту, в которой Германия уже расплатилась дорогой ценой. Так что теперь он заявил:
– Любая вина, какую мог навлечь на себя наш народ, уже полностью изглажена{637}.
Весь судебный зал внимательно слушал продолжение этой речи. Вина Германии уничтожена «поведением противника по отношению к нашему народу и его солдатам». Такое поведение было полностью исключено из рассмотрения суда, напомнил Франк, и правосудие вышло одностороннее. «Страшнейшие массовые преступления» совершались в отношении немцев русскими, поляками и чехами. Вновь – быть может, безотчетно – Франк выстраивал мировоззрение, в котором одна группа бьется против другой. Обернувшись в сторону своих товарищей, Франк завершил речь вопросом:
– Кто взыщет за эти преступления против немецкого народа?{638}
Вопрос повис в воздухе. Так одним махом было устранено прежнее признание хотя бы частичной вины.
После Франка выступало еще четырнадцать подсудимых. Ни один не пожелал признать вину.
Когда закончилась последняя речь, судья Лоуренс объявил, что следующее заседание пройдет 23 сентября. В этот день будет оглашен приговор.
Слушания закончились, а Лемкин так и не получил известий о своей семье. Лишь в середине сентября, во время перерыва перед вынесением приговора, он узнал наконец, какая участь постигла Беллу и Йосефа. Информацию Лемкин получил от своего брата Элиаса, с которым свиделся в Мюнхене. Тогда он и узнал, что его семья стала частью «документов Нюрнбергского процесса».
Элиас спасся благодаря счастливому стечению обстоятельств – подробно эту историю пересказал мне его сын Шауль. Шаулю в июне 1941 года было двенадцать лет, он жил с родителями в Волковыске, на каникулы они решили поехать в гости на старую территорию Советского Союза: «Мы отдыхали на даче, тетя сказала, какие-то слухи о войне, и мы включили радио». Так они узнали, что Гитлер разорвал пакт со Сталиным, начал операцию «Барбаросса». Неделю спустя немцы захватили Волковыск. Белла и Йосеф, а также все остальные близкие, оставшиеся в городе, попали в ловушку.
То, что задумывалось как короткие каникулы, превратилось в трехлетнее пребывание в глубине Советского Союза. Они знали, что дядя Рафал благополучно добрался до Северной Каролины. Но теперь гибель Беллы и Йосефа, злосчастное решение оставить их, не очень уже здоровых, дома стало причиной разрыва между Рафалом и Элиасом.
– Мой дядя был вне себя: как мы посмели их бросить! Но мы же не знали, что произойдет, – Шауль и семьдесят лет спустя чувствовал потребность оправдаться. – Мы просто поехали в гости. Никто, даже сам Сталин, не знал, что вот-вот начнется война.
Шауль вместе с родителями просидел в Москве до июля 1942 года. Затем у них истекла виза, и они на поезде поехали за Урал, в Уфу, столицу автономной республики Башкирия{639}. В 1944 году они вернулись в Москву, а после окончания войны выехали в Польшу и в итоге оказались в лагере для перемещенных лиц в Берлине; там-то Рафал их и нашел.
– Дядя позвонил нам в Берлин в августе 1946 года, из Нюрнберга, – вспоминал Шауль. – Он посоветовал отцу не засиживаться в Берлине: русские могут блокировать город.
С помощью американцев Лемкин организовал переезд своих родственников из Берлина в другой лагерь, мюнхенский. Шауль лежал в больнице – ему удалили аппендикс, – когда в середине сентября дядя приехал к ним.
– Он пришел ко мне в больницу вместе со своей секретаршей мадам Шарле, американкой, служившей в армии; она немного говорила по-русски, очень приятная женщина. Дядя очень хорошо выглядел, был нарядно одет. Мы обнялись, и он сказал: «Тебе надо в Америку».
Они поделились той мизерной информацией, какой располагали о событиях в Волковыске.
– Мой отец Элиас выяснил, что к приходу Советов летом 1944 года уцелело немного евреев, наверное, не более пятидесяти-шестидесяти.
Одни и те же события, повторявшиеся в Жолкве, Дубно и десятках тысяч больших и малых городов по всей Центральной Европе, отражены в камнях Треблинки. Шауль говорил об этом кротко, но свет в его глазах померк: