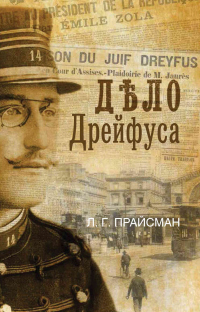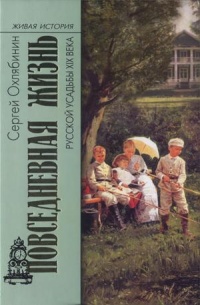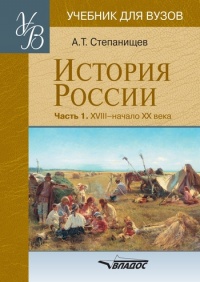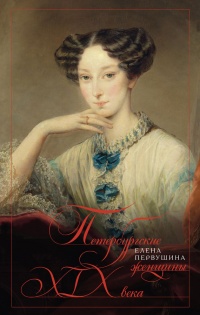Книга Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) - Юрий Лотман
Читать книгу Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) - Юрий Лотман полностью.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Книги схожие с книгой «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) - Юрий Лотман» от автора - Юрий Лотман:
Комментарии и отзывы (0) к книге "Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) - Юрий Лотман"