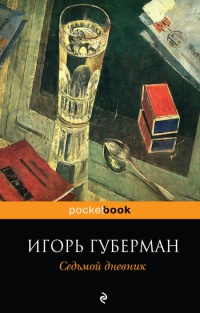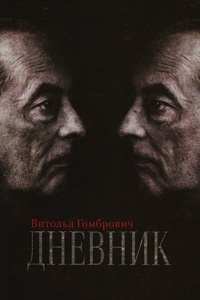Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И еще представил — тоже сила воображения, — как прихожу в театр — на чужую для меня территорию, — как, строя равнодушное лицо, вежливо слушаю, что мне говорит прокуренная дама-завлит — до главного режиссера кто ж меня допустит?
Все! Никому не показывать! В стол ее! И забыть! Не было никакой пьесы!
Иногда разочарование в том, что сделал, горько, но полезно.
Да ну их всех в болото! Вернусь-ка я, бедолага, к себе — в кино. Хоть и политое слезами многими, но все-таки мое место, исконное, так сказать, намоленное. Меня, правда, там не особо привечают — в данное историческое время.
Очень скоро это изменится — наступит новое историческое время.
То был канун 5-го съезда кинематографистов 86-го года — в Кремлевском дворце!
Наброски из ненаписанного романа
А как рухнула вековая ограда неприступного Эльсинора и как открылось — на все стороны света — пространство — то ли поле, то ли лес, то ли степь, то ли горы — ахнула толпа потрясенная. Что за притча? А поминальное угощение где ж? Кутья да блины? Спецсоставы обещанные — где? Кто разнес, наплел? Где эта сволочь босоногая? Оборотились назад — нет бесенят, ищи-свищи!
Вернуться в Эльсинор? Глядь, а стену уж и восстановили — быстро, мать их! И ведь могут, когда хотят. Чужими-то руками легко. Свои-то — руки — труждать охоты нету. Откуда-то они всегда брались в городе, чужие, приходили на заработки. Откуда? Да не откуда, не ваше собачье дело, с неба свалились.
Однажды Сашка видел, как умирает человек.
Он работал в театре, черный, как жук, курчавый, как Пушкин, — его так, конечно, и прозвали. И еще про него говорили — “цы́ган”. Хотя он был гагауз. Но про то, что такие бывают, вообще в Эльсиноре никто и не слыхал.
“Гагаузы — потомки тюркоязычных протоболгар, переселившиеся в VII веке с берегов Волги на Балканы и принявшие в IX веке христианство”.
Наброски из ненаписанного романа
Пушкин был чистый гений, золотые руки. Только и слышно: где Пушкин? Пушкина сюда! Это только Пушкин может!
Электрика-механика? Столярка-токарка? Да пожалуйста, что хотите!
Такой уж был всем нужный и незаменимый — до всего своим умом доходил — цы́ган Пушкин. Театр за это ему выхлопотал комнатку в коммуналке — в обход очередника. А очередник — с женой и с ребеночком. Новорожденным. И ведь эльсинорец был, коренной, потомственный.
Во дворе театра — напротив ворот, открытых в кулисы, собирали — под руководством Пушкина — какую-то хитрую конструкцию для будущего спектакля, и стоял огромный чан с кипящим варом — им промазывали швы. Пушкин легко и весело носился туда-сюда. И когда он оказался рядом с чаном, очередник взял его сзади за шею и ткнул лицом в расплавленный вар.
Сашка — он был тогда в театре — во двор прибежал вместе со своим старшим другом, рабочим сцены.
Пушкин лежал на земле — лицом к небу. Черный вар облепил раскаленной массой лицо, ослепшие глаза. Там, где у него был рот, образовалось судорожно втягивающееся углубление. Но набрать в легкие воздух он не мог. Пытался сорвать с себя эту жуткую маску — ногтями — процарапать застывающий гуттаперчевый слой. Сашка увидел, как будто сверкнула — показавшаяся в первый момент белой — ядовито-красная обожженная кожа.
В плющихинской квартире у нас стали уходить животные. Сначала — кот Дарик.
Я тогда не был в Москве. И это — рассказ Ирины, мистическая история. Вот она.
Дарик был довольно большой, старый белый кот с очень плохим характером. Меня он невзлюбил. Но он принадлежал Ириной маме, и уже поэтому его надо было похоронить с достоинством.
Ирина и Катька положили его в подходящую коробку, попросили у соседей лопату. И поздно вечером перешли наш переулок — напротив дома на холмике был то ли двор, то ли пустырь. Поднялись по лестничке, выбрали место поукромнее под деревьями, поставили коробку на землю. Ирина стала копать.
— Мама… — тихо позвала ее Катька.
Ирина оглянулась. Вокруг белеющей в темноте коробки скорбно и торжественно сидели коты. Из разных, возможно, подвалов и помоек — собрались по зову сердца, чтобы в полном молчании проводить в последний путь своего брата.
Как узнали? Как нашли дорогу?
Я так и представил эту картину. Как иллюстрацию к гофмановскому “Коту Мурру”. Ночь. Луна. Белый гробик. И две фигуры над ямой, женщина с лопатой и обязательно в плаще. И девочка. Держит над головой фонарь с горящей внутри свечой. И вокруг коты. Как маленькие изваяния. Мне почему-то хотелось, чтобы они все были белые.
А потом уже рядом с Дариком лег наш любимый Гек. Как будто целая эпоха — часть жизни нашей семьи — ушла с ним. Он переносил с нами все невзгоды, путешествовал с квартиры на квартиру по Москве и под Москву, он был верен всегда, любил нас и ненавидел врагов.
Он уже ходить не мог после второго или третьего “удара”. Ирина сшила ему такой жилетик со шлейками, я сносил его с нашего этажа во двор и ставил на подгибающиеся лапы. Но как только во двор заглядывал соседский овчар, шерсть на загривке у Гека грозно топорщилась и он рвался в бой.
Когда его зарывали под деревом — уже с моим участием, — проводить его братья псы не пришли. Вот вам разница между кошками и собаками.
Я вернулся тогда из поездки в Албанию. Миша Агранович, Саша Михайлов и я. Студия “12-а”, которой руководил Саша под эгидой Фонда Ролана Быкова, готовилась снимать совместный фильм по моему сценарию — “Врата Евы”. Режиссер — албанец Альберт Минго.
Я вошел в дом. Ирина и Катька загадочно смотрели на меня. А из под кровати вылезало существо, оказавшееся щенком ротвейлера, девочкой. Потом эта девочка весила пятьдесят пять килограмм.
Решали, как назвать. Я думал недолго. Был Гек — Геккельберри Финн? Будет Бекки Тэтчер. Так и появилась — наша Бекки, уже другая эпоха.
О ней — впереди.
У нас новый шкаф для книг. Последнее и окончательное приобретение мебели. И это как будто окончательно сформировало нашу жизнь в квартире на Плющихе — на будущие двадцать с лишним лет.
Красное дерево, стиль “жакоб”. Скорее, “Александр”, а не “Павел”. В хорошем состоянии, отреставрированный. Знающий человек объяснил мне, что шкаф предназначался для белья. Но впоследствии его сделали книжным.
Нашел, чем удивить! То, что шкаф — книжный, я знал с детства. Потому что это был мой шкаф, наш. Шкаф отца. И стоял он у него в кабинете — напротив черного кожаного дивана и черного кожаного кресла.
Меня он привлекал необычайно. Сверху, на крышке — в диком беспорядке — были навалены отцовские рукописи, прочие бумаги и старые газеты. Видимо, привычку сваливать без разбору и забывать я унаследовал от него. Сейчас на шкафу — в таком же беспорядке — мои черновики, материалы к сценариям, работы учеников.