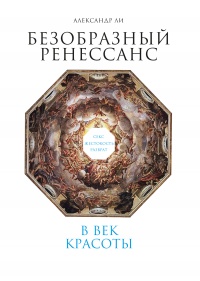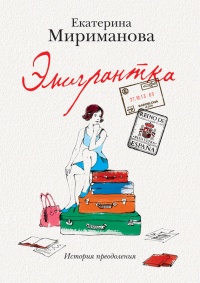Книга Есенин. Путь и беспутье - Алла Марченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Редактор, пробежав глазами несколько первых листочков, рукописью заинтересовался. Ее спешно, прямо-таки с колес поставили в номер. Спешка удивила Есенина: очерк не отделан, не перебелен, а вторая часть вообще не написана. (Вторая половина «Миргорода» выйдет в свет лишь в конце сентября.) Впрочем, удивлялся он недолго. Через три или четыре дня, не позже 19 августа, его пригласили в Кремль, к Троцкому.
По моему убеждению, этот эпизод стоит того, чтобы попытаться его реконструировать и осмыслить. В ракурсе большого литературного контекста он ничуть не менее значим, чем первая личная, тет-а-тет, встреча Пушкина с Николаем I 8 сентября 1826 года в Чудовом дворце Кремля или телефонный разговор Пастернака со Сталиным.
Итак, 18 или 19 августа 1923 года Есенин является в Кремль. Как и в случае с Пушкиным, ничего достоверного о беседе поэта с почти первым лицом страны Советов нам не известно, кроме короткой фразы в его письме к Дункан от 23 августа: «Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно». И все-таки на основании косвенных данных можно предположить, что разговор, круто изменивший социальный статус Есенина, не мог миновать минимум трех интересных для обоих собеседников тем.
Тема номер один: положение дел в Веймарской республике.
Тема номер два: Америка.
Тема номер три: крестьянский вопрос.
С Веймарской Германией Советская Россия только что подписала договор, аннулировавший предписанные Брестским миром территориальные и прочие обязательства. Троцкому, убежденному, что в отдельно взятой стране построение социального государства невозможно, важно услышать от наблюдательного очевидца ответ на сильно занимавший его вопрос: продолжается ли революционизация масс в разоренной войной Германии. Одно дело – официальные отчеты, и совсем другое – личное впечатление [37] .
Мнение Есенина на сей счет наркомвоенмора наверняка не порадовало. Вряд ли Сергей Александрович мог рассказать Льву Давидовичу что-нибудь отличное от того, о чем написал еще летом 1922-го, в июне из Висбадена, в июле из Дюссельдорфа: «Никакой революции здесь быть не может. Всё зашло в тупик (…) Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут, и пьют, и опять фокстрот».
Зато впечатления от Америки оказались, на удивление, сходными. Цитировать хрестоматийный «Железный Миргород» не буду, а вот отрывок из автобиографической прозы Троцкого все-таки приведу:
«Я оказался в Нью-Йорке, в сказочно прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах – нравственная философия доллара» [38] .
Не разошлись они, как мы уже могли убедиться, и в понимании современной поэзии и даже в рассуждении западной живописи. И в этом отношении их предпочтения парадоксальным образом совпали. «Мы несколько раз, – вспоминает Иван Грузинов, – посетили (в 1921 году. – А. М. ) с Есениным музей новой европейской живописи (бывшее собрание Щукина и Морозова). Больше всего его занимал Пикассо. Есенин достал откуда-то книгу о Пикассо со множеством репродукций с его работ» [39] . И мало что «достал»! Он еще носился с этой книгой по всей Москве, выискивая тех, кто мог бы перевести ему немецкий текст…
Спустя два года в тот же музей заходит вместе с Троцким Юрий Анненков и не без удивления выясняет, что Л. Д. Т. больше всех занимает Пикассо. И это не мимолетное впечатление. Вот как описывает художник содержание своих бесед с Троцким в те месяцы 1923 года, когда он писал его парадный портрет: «Наши беседы скользили с темы на тему, часто не имея никакой связи с событиями дня и с революцией. Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова. Он (…) был всегда в курсе художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе (…) Во время сеансов мы много говорили о литературе, о поэзии (к которой Троцкий относился с большим вниманием) и об изобразительном искусстве. Могу засвидетельствовать, что среди художников тех лет главным любимцем Троцкого был Пикассо» [40] .
Воспоминания Анненкова интересны еще и тем, что дают реалистическое описание внешности и поведения живого Троцкого, поскольку в широко бытующих в России времен минувших анекдотах он изображается не иначе, как полукарликом, высокомерным и злобным. Впрочем, о его высокомерии и позерстве с досадой и раздражением вспоминали многие вполне, казалось бы, объективно настроенные современники. Анненков ни того, ни другого в своем собеседнике не зафиксировал: «Он был хорошего роста, коренаст, плечист, коренаст, сложен. Его глаза сквозь стекла пенсне блистали энергией. Он встретил меня весьма любезно, почти дружественно и сразу же сказал: “Я хорошо знаю вас как художника. Я знаю, что до войны вы работали в Париже. Я знаю ваши иллюстрации к «Двенадцати» Блока, и у меня есть книга о ваших портретах. Надеюсь, что вы тоже слыхали кое-что обо мне, и, значит, мы давние знакомые. Присядем”» [41] .
Не думаю, чтобы стилистика описанных Анненковым бесед сильно отличалась от стиля разговора Троцкого с Есениным 19 августа 1923 года. Наверняка и на этот раз заданный хозяином кремлевского кабинета тон был любезным и почти дружеским. Ни снисходительности, ни щегольства «интеллектуальным превосходством» поэт не выносил.
Не могло не заинтересовать Троцкого и мнение Есенина об «уделе хлебороба», хотя бы на примере его родного села. Летом 1923 года проблема русской деревни крайне беспокоила наркомвоенмора. Уже по одному тому волновала, что идея замены продразверстки фиксированным продналогом, то есть фактически идея новой экономической политики, принадлежала лично ему, с этим предложением он обращался к Ленину еще в 1920-м, а Лев Давидович свои идеи любил и лелеял. Но дело, думаю, было не только в сугубо прагматическом интересе. Во всех современных российских энциклопедиях сообщается, что Л. Д. Троцкий – сын богатого землевладельца. В реальности это не совсем так. К тому времени как Лейба Бронштейн стал Троцким, его отец действительно выбился в люди. Бенедикт Лифшиц даже называет его богатым помещиком, а принадлежащее Бронштейнам фермерское хозяйство – процветающим имением. Однако к моменту рождения будущего злого гения русской революции бытовая обстановка в только что купленной Бронштейнами деревне Яновка мало чем отличалась от «жизнеоборота» в есенинском Константинове. Вспоминая начало жизни, Троцкий пишет: «Евреи-земледельцы были уравнены с крестьянами не только в правах (до 1881 года), но и в бедности. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх».
Троцкий не перегибает палку. Хозяин Яновки не сентиментальничал ни с работниками, ни с собственными малолетними детьми. Скажем, такой эпизод: «После жгучего степного лета приближается ранняя осень, чтобы подвести итог году каторжного труда. Молотьба в полном разгаре. Центр жизни переносится на ток, за клунями, что с четверть версты за домом (…) Рванув охапку, барабан рычит, как собака, схватившая кость. Соломотрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. Сбоку, из рукава, бежит полова (…) Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на дощатом ее хвосте, держась за веревочные вожжи. “Глядь, не упади!” – кричит отец (…) Я поднимаю волок, он вырывается всем весом, ударяет по пальцам руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу, потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевязывает палец. Но боль не унимается…» Не забудем и еще один важный момент. Поскольку Лейба Бронштейн, как и Есенин, до девяти лет «почти не высовывал носа из отцовской деревни», бытовая фактура есенинской поэзии была ему и близка, и понятна. Иногда их детские деревенские впечатления еле слышно перекликаются, иногда совпадают почти буквально.